Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« : 07 Октября 2015, 05:52:25 » |
|
Валерий ЛясковскийАлексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочиненияКо дню памяти. Часть 1 Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938). Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938).
Это первое монографическое сочинение об А.С. Хомякове.
В.Н. Лясковский окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» он познакомился с И.С. Аксаковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского комитета, был и в теплых отношениях с А.Ф. Аксаковой (в архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И.С. Аксакова «Русь».
С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение «Дмитровское-Истомино». По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка), братьев И.В. и П.В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича - Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В.Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. - 1896. - Кн.3. - С. 337-510; Отд. изд.- М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и труды их. - СПб., 1899.- 99 с.).
После революции В.Н. Лясковский жил в Орле, писал воспоминания. Арестован (1937), погиб в заключении.
Публикацию (в сокращении) специально для Русской Народной Линии (по первому отдельному изданию: Лясковский В.Н. А.С. Хомяков. Его жизнь и сочинения.- М.: Универ. тип., 1897.- VIII, 176, II с.) подготовил профессор А. Д. Каплин. Постраничные сноски автора заменены концевыми.
Деление текста в Интернет-издании на 3 части - составителя (при этом авторское разделение сохранено без изменения).
+ + + ПРЕДИСЛОВИЕ.Трудность исторической оценки умственного деятеля. - Необходимость исторической перспективы при такой оценке. - Особенность деятельности Хомякова. - Отношение к нему и к его сторонникам двух господствующих общественных партий. - Необходимость правильной оценки славянофильства. - Задача предлагаемого труда. - Его план. - Цель автора. Оценка исторического деятеля тем легче для современников и потомства, чем резче очерчен круг его деятельности и чем доступнее область её пониманию большинства. Законодатель и полководец будут поняты раньше, чем художник и мыслитель; потому что труд последних, хотя быть может более глубокий и плодотворный, не отражается так непосредственно на внешней жизни народа, не затрагивает тотчас её ежедневного течения. Чем выше и духовнее работа, чем шире захват её, чем меньше дает она готовых выводов для немедленного применения, тем чаще работник остается незамеченным и неоцененным. Труд мысли и духа, борьба учения и слова не поддаются тому легкому, поверхностному восприятию, которое тотчас доступно всякому. Часто человек успевает сойти в могилу прежде, чем поймут его; а нередко и над могилою его нескоро наступает правдивая и беспристрастная оценка. И как тому, кто стоит вплоть возле высокой башни, видны лишь камни её основания, и ему нужно отойти в даль, чтобы разглядеть её истинные размеры и красоту: так и в области духа мы часто не разумеем значения исторического лица, потому что стоим к нему еще слишком близко. Нужно нам удалиться от него ходом времени, нужно ему отойти для нас в историческую даль, чтобы нам стало возможно верное его понимание. Таков был человек, изображению жизни и трудов которого посвящено нижеследующее. И не потому говорим мы это, приступая к рассказу о нем, что таким голословным суждением думаем наперед возвысить его во мнении читателя: подобный прием уместен разве в надгробном слове, а не в историческом жизнеописании; да к человеку этому и не идут такие искусственные приемы возвеличения. Цель наша иная: мы желали бы по возможности выяснить повод к появлению нашего труда, его происхождение и задачу.  Алексей Степанович Хомяков прожил немало (пятьдесят шесть лет) и во вторую половину своей жизни принимал такое заметное участие в умственной жизни своего времени, которого и противники его воззрений никогда не отрицали. Но он не только никогда не выступал на поприще деятельности практической, а и в научных и печатных своих трудах затрагивал главным образом вопросы свойства духовного, вечного, лишь изредка касаясь текущих житейских дел. Поэтому естественно, что деятельность его была недостаточно оценена при жизни и медленно находит оценку по смерти. Но этого мало. Этим объяснялось бы столь позднее появление первого опыта его биографии, и в таком положении находится не он один, а, к сожалению, и многие другие крупные русские деятели. Есть иная причина, замедляющая беспристрастную оценку Хомякова, причина, действовавшая по отношению к нему более, чем к кому бы то ни было. Хомякова и немногих близких к нему по убеждениям людей (частью сверстников, частью учеников) литературные их противники назвали славянофилами. Имя это, данное отчасти в насмешку, утвердилось за ними. Люди мало знакомые с делом думали и думают, что, согласно с прозвищем, вся суть славянофильства в сочувствии с зарубежными славянами, в панславизме; более осведомленные считали и считают основным догматом славянофилов обособление русской народности (национализм); лишь сравнительно немногие, читавшие сочинения Хомякова и других, знают, что проповедь народного самосознания была у славянофилов, и в особенности у Хомякова, выводом из целой совокупности религиозных убеждений и исторических воззрений. При жизни старых славянофилов (Киреевских, Хомякова, Самарина, Аксаковых) им противуполагались западники. Теперь, через полвека после спора этих двух направлений мысли, мы видим в нашем ученом литературном и общественном мире опять два господствующих направления, называемые обыкновенно либеральным и консервативным. Принято представителей первого считать преемниками западников, защитников второго - наследниками славянофилов. Не будем останавливаться на вопросе о преемстве западно-либерального направления; в этом вопросе обе стороны довольно согласны. Совершенно иначе представляется теперешний взгляд на славянофильство! В продолжение нескольких десятков лет многие вожди так называемого консервативного направления находили удобным для себя приурочивать проводимые ими взгляды ко взглядам славянофильским, вернее - пользоваться славянофильскою терминологией. Такое стремление было настолько сильно, что противники их, теперешние либералы, и на славянофильство стали смотреть теми глазами, какими смотрят они на современный публицистический консерватизм. С другой стороны, сами консерваторы никогда не переставали несколько сторониться славянофилов, коих оружием они зачастую пользовались, в тайне считая их тоже либералами, только другого сорта, чуть ли не еще более опасного... Таким образом, истинное славянофильство было и осталось равно в недоверии и подозрении у обеих, так сказать, оффициально признаваемых литературно-общественных партий. Такое положение кажется на первый взгляд странным, а между тем объяснение его очень просто. Дело в том, что обе эти так называемые наши партии, либералы и консерваторы, в сущности в одинаковой мере западники, то есть люди переносящие на Русскую почву западноевропейские понятия о консерватизме и либерализме. Поэтому они и не могут иначе относиться к славянофильству, которое, конечно, не подходит ни под одну из двух ходячих мерок; ибо сущность его заключается не в той или иной политической доктрине, а в признании за Русским народом, как выразителем целого Православно-Славянского мира, своих исконных начал, отличных от начал западных и часто даже им противуположных. Поэтому консерваторы и либералы, хотя и враждуют, но понимают друг друга; славянофилов же ни те, ни другие никогда не понимали вполне, так как судили о них по признакам чисто-внешним, а не по основным началам их воззрений, которых не могли или не хотели разглядеть. Проверить это легко хотя бы уже на том, что по одним общественным вопросам славянофилов причисляли к лагерю консервативному, по другим - к либеральному. Пусть такое причисление было чисто-внешнее, случайное, несогласное со смыслом деятельности отдельных славянофилов в том или другом деле: оно все же бывало, а толпа и не судит ни о чем иначе как по внешности. И такое недоразумение продолжалось не год, не два, а целых пятьдесят лет. Но всякому недоразумению когда-нибудь приходит конец. Настала пора определить место славянофильства в истории развития Русского просвещения и, сведя итог оставленному им наследству, сличить это наследство с тем, что теперь иногда выдается за славянофильское учение или чтó порицается как таковое. Попытки такой критической работы начинают появляться в литературе обоих лагерей. Составитель предлагаемой статьи далек от мысли дать точный и окончательный ответ на столь широко поставленный вопрос: он дает лишь свой опыт его посильного решения известным способом и в известных границах. Статья эта - не история славянофильства и не изложение славянофильского учения: это биография Хомякова и изложение его сочинений. Характеристики и изложение воззрений близких к Хомякову людей введены в нее лишь постольку, поскольку связь с ними служит к уяснению его личности и учения. Сообразно со своею задачею, статья разделена на две части: в первой рассказана жизнь Хомякова, во второй изложено его учение. В заключении автор излагает свои личные взгляды на значение Хомякова и его дела. Цель такого деления следующая. Никакое мнение не обеспечено от ошибок, тем менее мнение ученика (ибо биограф и не думает скрывать такого своего отношения к мыслителю, коего учение он излагает). Поэтому он не решается назвать свое исследование критикою. Но и верное само в себе мнение может возбудить спор; а так как главнейшая цель нашего труда - изображение, а не истолкование, то мы и желали бы поставить самое это изображение вне спора, не примешивая к нему наших личных мнений. Иначе: мы хотим изобразить Хомякова таким, каков он есть, а не таким, каким он, может быть, кажется нам. Конечно, никакой исследователь не может вполне отрешиться от собственной личности; но он обязан сделать это по мере сил. Вот почему мы и отделили, поскольку это было возможно, объективную часть нашего труда от субъективной. Предлагая рассказ о жизни Хомякова и изложение его сочинений, мы на основании того и другого излагаем затем наш взгляд на него, как всякий другой, предоставляя читателю проверить этот взгляд или составить свой собственный. Кто-то из западнического лагеря сказал раз автору: «Настоящий Хомяков утрачен, есть теперь Хомяков Аксаковский, Самаринский, Юрьевский, Кошелевский. Какой из них ближе к подлиннику, мы не знаем, а потому и судить о подлинном не беремся». В этом замечании, конечно, много преувеличения, но есть и доля правды. Цель настоящего труда восстановить, по возможности образ подлинного Хомякова. Цель эта - не полемическая. Невозможность местами вполне избежать полемического оттенка была очень тяжела для автора, и он приложил все свои старания к тому, чтобы уменьшить в своем сочинении элемент личного спора. Спор противоположных направлений мысли ведет к выяснению истины; спор личных самолюбий и счетов только затемняет ее. Спокойно и твердо высказанное мнение не должно быть принимаемо за вызов. Один вызов желателен во имя истины: вызов на разъяснение всего неясного, на дружную, совместную работу мысли и слова. Часть первая.
Жизнь А. С. Хомякова.I.Происхождение, детство и первая молодость. В половине ХVIII века жил под Тулою помещик Кирилл Иванович Хомяков. Схоронив жену и единственную дочь, он под старость остался одиноким владельцем большего состояния: кроме села Боучарова с деревнями в Тульском уезде были у Кирилла Ивановича еще имения в Рязанской губернии и дом в Петербурге. Все это родовое богатство должно было после него пойти неведомо куда; и вот старик стал думать, кого бы наградить им. Не хотелось ему, чтобы вотчины его вышли из Хомяковского рода; не хотелось и крестьян своих оставить во власть плохого человека. И собрал Кирилл Иванович в Боучарове мирскую сходку и отдал крестьянам на их волю - выбрать себе помещика, какого хотят, только бы был он из рода Хомяковых, а кого изберет мир, тому он обещал отказать по себе все деревни. И вот крестьяне послали ходаков по ближним и дальним местам, на какие указал им Кирилл Иванович - искать достойного Хомякова. Когда вернулись ходаки, то опять собралась сходка, и общим советом выбрали двоюродного племянника, своего барина, молодого сержанта гвардии Федора Степановича Хомякова, человека очень небогатого. Кирилл Иванович пригласил его к себе и, узнав поближе, увидал, что прав был мирской выбор, что нареченный наследник его добрый и разумный человек. Тогда старик завещал ему все имение и вскоре скончался, вполне спокойным, что крестьяне его остаются в верных руках. Так скромный молодой помещик стал владельцем большего состояния. Скоро молва о его домовитости и о порядке, в который привел он свои имения, распространилась по всей губернии. Стали рассказывать, что в кладовых у него хранятся целые сундуки с серебром и золотом. Когда в 1787 году императрица Екатерина проезжала через Тулу и советовала дворянству открыть банк, то дворяне отвечали ей: «Нам не нужно, матушка, банка; у нас есть Федор Степанович Хомяков. Он дает нам денег в заем, отбирает к себе во временное владение расстроенные имения, устраивает их и потом возвращает назад». Таков был излюбленный крестьянами Боучаровский владелец. Сохраненное и увеличенное Федором Степановичем состояние досталось его единственному сыну Александру, женатому на Настасье Ивановне Грибоедовой . Сын не походил на отца. Разгульный, необузданный в своих увлечениях, не имея нужды стеснять себя в чем бы то ни было, он весь отдался страсти к пирам и охоте. Каждую осень около 1-го сентября выезжал он из Боучарова и проводил в отъезжем поле целый месяц, кончая поход смоленским своим имением Липицами, полученным им в приданое за женою. Следствием такой жизни было то, что сын его Степан унаследовал расстроенные дела и долги.
Степан Александрович Хомяков был человек очень добрый, образованный и принимавший живое участие в литературной и умственной жизни своего времени, но не только не деловитый, а и беспорядочный по природе, в добавок страстный игрок. Выйдя в отставку поручиком гвардии, он женился на Марье Алексеевне Киреевской, небогатой и немолодой уже, но еще очень красивой девушке. Живя в Москве, он проиграл в Английском клубе более миллиона, чем окончательна запутал и без того уже плохие дела свои. Тогда Марья Алексеевна сама взялась за хозяйство и, благодаря своей редкой настойчивости, успела заплатить долги мужа. Чтобы сохранить детям состояние, она, с согласия Степана Александровича, перевела все имения на свое имя.
С тел пор муж и жена жили врозь, видаясь изредка: Марья Алексеевна с детьми в Боучарове и в Москве, а Степан Александрович в Липицах. Когда он заболел и после нескольких нервных ударов впал в детство, Марья Алексеевна перевезла его к себе и заботливо за ним ходила. Вообще это была женщина замечательная, соединявшая чуткое сердце с непреклонностью убеждений и воли, доходившею до суровости и выражавшеюся подчас в очень резких поступках. Вот чтó писал о ней, много лет спустя, её сын, лучше всех ее знавший: «Она была хороший и благородный образчик века, который еще не вполне оценен во всей его оригинальности, века Екатерининского. Все (лучшие, разумеется) представители этого времени как-то похожи на суворовских солдат. Что-то в них свидетельствовало о силе неистасканной, неподавленной и самоуверенной. Была какая-та привычка к широким горизонтам мысли, редкая в людях времени позднейшего. Матушка имела широкость нравственную и силу убеждений духовных, которые, конечно, не совсем принадлежали тому веку; но она имела отличительные черты его, веру в Россию и любовь к ней. Для неё общее дело было всегда и частным её делом[ii]. Она болела, и сердилась, и радовалась за Россию гораздо более, чем за себя и своих близких».
Степан Александрович и Марья Александровна жили в Москве на Ордынке, в приходе Георгия на Всполье. Здесь 1 мая 1804 года родился у них второй сын Алексей. Кроме него, детей было еще двое: старший на два года сын Федор и дочь Анна. Позднее Хомяковы переехали в дом свой на Петровку, против Кузнецкого моста, а лето проводили иногда в Липицах, но большею частью в Боучарове. Отсюда, во время нашествия Наполеона, Степан Александрович с семьею уехал в свое рязанское имение, село Круглое, Донковского уезда, где они и прожили зиму 1812 - 13 гг., в соседстве близкой своей знакомой Прасковьи Михайловны Толстой, дочери Кутузова, от которой могли иметь точные сведения о ходе военных действий. В память благополучного избавления от врага Марья Алексеевна дала обет построить в Круглом церковь; обет этот был впоследствии исполнен её сыном.
(Продолжение 1-й части следует)
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #1 : 07 Октября 2015, 05:54:24 » |
|
(Продолжение 1-й части)
Переезд в Донков и пребывание там были первыми крупными событиями в жизни восьмилетнего Алексея. Хотя он своим младенческим умом и не мог еще обнять всего великого смысла переживаемой им поры, но, развитый не по годам, уже должен был чуять его, а почва для такого чутья в его душе была готова. Дети Хомякова росли не так как большинство детей тогдашнего зажиточного дворянства: вместо отчуждения от Русской жизни и всего более от Русской старины, они на каждом шагу могли видеть живые следы её и свежие предания. Боучаровский дом был полон этою стариною. Исторические воспоминания восходили в нем не только до Петровского времени, но и переходили через глубокий ров, прорытый этим временем в памяти Русского общества. Мальчик знал, что его предок Петр Семенович Хомяков был любимым подсокольничим Алексея Михайловича, и мог видеть письма к нему тишайшего царя, сохранившиеся в их доме. Знал он и еще, пожалуй, слышал от очевидцев чудный рассказ о том, как его прадед, подобно другому, всенародному избраннику, был избран народом и издалека призван владеть Боучаровым, и, конечно, представление о сельском мире, о важности мирского приговора не могло не сложиться в его голове определеннее и строже, чем у всякого другого из его сверстников. Та близость к народу, которую он с детства привык в себе чувствовать, поддерживалась и укреплялась самою крепкою из связей - связью веры и церковного общения. В доме Хомяковых, под непосредственным воздействием Марьи Алексеевны, жизнь шла в чисто-православном духе, со строгим соблюдением всех постов, обрядов и обычаев церковных, что опять-таки встречалось нечасто в тогдашнем верхнем слове Русского общества, пропитанном всевозможными западными учениями: и масонством, и деизмом и атеизмом, всем, но только не православною верою. Проводя большую часть своей детской жизни среди Московских святынь, мальчик не мог не проникнуться настоящим старорусским духом, и когда из своего рязанского убежища он услыхал, что Москва, которую он так любил с тех пор, как себя помнил, принесена в жертву за спасение России, мог ли ребенок Хомяков если не умом, то живым пониманием сердца не уразуметь того, чтó творилось вокруг него?
Так все те понятия, которые ему суждено было, возмужав, выразить в строгой последовательности научного исследования и могучим взмахом творческой мысли объединить в одно стройное учение, все они живыми образами уже стояли над его колыбелью. Под воздействием исключительных условий места и времени зарождался будущий мыслитель, а широкое приволье Боучарова и в особенности Липиц, с близостью к природе, с знаменитою дедовскою и отцовскою охотою, воспитывало поэта. Между тем обращено было заботливое внимание и на учение, и прежде всего на языки, при том не на один только французский, но и на немецкий, английский и латинский. Последнему учил братьев Хомяковых живший при них аббат Воiѵin. Раз маленькому Алексею попалась в какой-то книге папская булла. Он нашел в ней опечатку и спросил аббата, как же он считает непогрешимым папу, делающего ошибки в правописании, за что и был наказан. Этот случай наводит на мысль, что в разговорах между ученым аббатом и его воспитанником затрагивались богословские вопросы, и что эти разговоры и послужили первым толчком, направившим ум будущего богослова на различие исповеданий. Что касается порученного аббату прямого дела - преподавания латинского языка, то он выполнил его добросовестно, и мальчик основательно усвоил себе этот язык. Язык греческий он в начале знал плохо и утвердился в нем лишь впоследствии, а также познакомился с санскритским. Новые же языки Хомяков знал в совершенстве.
В начале 1815 года вся семья Степана Александровича поехали из Липиц в Петербург, потому что московский дом сгорел. По дороге мальчик всюду видел лубочные портреты Георгия Черного, и в его пылком воображении врезались образ сербского героя и рассказы о нем. В тоже время он и брат его мечтали, что они едут воевать с Наполеоном. Поэтому, когда они услыхали о битве при Ватерлоо, то Федор Хомяков спросил брата: «С кем же мы теперь будем драться?» - «Стану бунтовать славян», отвечал одиннадцатилетний Алексей. Петербург показался им каким-то языческим городом, и они ждали, что их будут принуждать переменить веру; но они твердо решились вытерпеть всякие мучения, а не принимать чужого закона. Нельзя не обратить внимания на все эти мелкие черты в жизни ребенка: ими в значительной мере объясняется последующее направление его мыслей.
В Петербурге Хомяковы прожили около двух лет. Там им преподавал русскую словесность драматический писатель Андрей Андреевич Жандр, друг Грибоедова. Взгляды последнего, в то время новые и вполне самостоятельные, этим путем дошли до них и, конечно, не остались без последствий. Вчитываясь в монологи Чацкого и вспомнив то господствующее направление общества, которое эти монологи обличают, мы невольно увидим некоторую связь между протестом, выразившимся в «Горе от ума», и позднейшим Московским направлением, которого провозвестником явился Хомяков; а если прибавим к этому, что Грибоедов относился с некоторым сомнением к преобразованиям Петра Великого, то связь эта окажется еще теснее.
После Петербурга Хомяковы три года жили по зимам в Москве, при чем оба брата оканчивали свое ученье, занимаясь вместе с Дмитрием и Алексеем Веневитиновыми под руководством шившего в их доме доктора философии Андрея Гавриловича Глаголева. Математику преподавал им профессор университета и друг С. Т. Аксакова Павел Степанович Щепкин, а чтение доставляла богатая библиотека Степана Александровича.
Между братьями Веневитиновыми и Хомяковыми установилась на всю жизнь самая тесная дружба. На сколько успешно шло ученье, можно судить по тому, что пятнадцатилетний Алексей Хомяков перевел Тацитову «Германию», и что перевод этот через два года был напечатан в «Трудах Общества Любителей Российской Словесности». Выбор предмета указывает отчасти на направление вкусов переводчика. Подобное же направление можно подметить и в его первых стихотворных опытах. Начал он, повидимому, и тут с переводов из Виргиния и Горация. Оду последнего «Pareus deorum cultor et infrequens», в которой прославляется божественное всемогущество, он перевел два раза, двумя разными размерами.
Первые самостоятельные произведения Хомякова ничем не отличаются от заурядных стихотворений других современных ему поэтов. В басне «Совет зверей» есть намек на вопрос о различии религий, но юный поэт еще не приходит ни к какому определенному заключению. Около этого времени Хомяков начал писать трагедию «Идоменей», которую довел только до второго действия. Немного спустя, он выдержал в Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук.
В это самое время в Греции шла борьба за независимость. Хомяковы еще по Петербургу имели связи с графом Каподистрией, в Москве же у них часто бывал агент Филелленов Арбé, бывший ранее гувернером Федора и Алексея. рассказы Арбé воспламенили его младшего воспитанника, и тот решился бежать, чтобы сражаться за греков и подымать славян. Достав себе с помощью Арбé фальшивый паспорт, купив засапожный нож и собрав рублей пятьдесят денег, он поздно вечером, в ваточной шинели, ушел из дому. Но ему не удалось обмануть бдительность своего дядьки Артемия, уже давно за ним наблюдавшего. Прождав возвращения Алексея Степановича до полночи и не дождавшись его, старик послал за барином в Английский клуб. Степан Александрович тотчас приехал домой и, добившись правды от своего старшего сына, разослал погоню во все стороны. За Серпуховскою заставою беглеца настигли и привезли домой. Отец не наказал его, и только старший брат получил строгий выговор за то, что не остановил младшего; воинственным же наклонностям юного кандидата постарались дать более безопасное направление, определив его вскоре в военную службу, в кирасирский полк, которым командовал Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен. Через год молодой Хомяков перешел оттуда в Конную гвардию. Воспоминанием о неудавшемся бегстве в Грецию осталось «Послание к Веневитиновым», в котором поэт мечтает о славных подвигах, о войне за веру и освобождение Эллады. К тому же времени относится неоконченная поэма «Вадим», воспевающая столько раз воспетого поэтами того времени полуисторического Новогородского героя.
Первыми друзьями молодости Алексея Степановича, кроме брата его Федора и Веневитиновых, были: двоюродный его брат, племянник Марьи Алексеевны, Василий Степанов. Киреевский, Александр Алексеевич Муханов, а затем товарищи Веневитиновых по службе в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел: Иван Васильевич Киреевский и Александр Иванович Кошелев. Блестящий, высокодаровитый и не по летам серьезный Дмитрий Веневитинов, обещавший стать в первом ряду умственных деятелей своего времени, был средоточием этого дружного кружка, составившегося из лучших представителей тогдашней образованной московской молодежи. Все они были усердными последователями немецкой философии и сторонниками западного просвещения; но Хомяков не уступал им своего строго-православного и русского образа мыслей. В том отношении он сразу сошелся с младшим братом Киреевского, Петром Васильевичем, с которым познакомился немного позже и которого горячо полюбил. Необыкновенная чистота души П. В. Киреевского и его непоколебимая преданность самобытному развитию русского народа не могли не привлечь Хомякова, который прозвал его «великим печальником за Русскую землю».
Скоро Алексею Степановичу пришлось столкнуться с совершенно другими учениями и испытать себя на ином поприще спора.
II.
Служба в Петербурге. - Встречи с декабристами. - Поездка зa границу. - Трагедия «Ермак». - Возвращение в Россию.
Переселение Хомякова в Петербург совпало с разгаром брожения умов, приведшего к событию 14 декабря 1825 года. Но убеждения и общественные идеалы молодого корнета гвардии, вынесенные им из дому и из многосторонного образования, установленные работою рано окрепшего ума, были настолько определенны, что он сразу нашелся среди тех теоретических и практических противоречий, из которых не сумели выйти многие из его сверстников. Встречаясь с декабристами у своих родственников Мухановых, он вступал с ними в горячие споры, утверждая, что изо всех революций самая несправедливая есть революция военная. Раз он до поздней ночи проспорил с Рылеевым, доказывая ему, что войска, вооруженные народом для его защиты, не имеют права распоряжаться судьбами народа по своему произволу. Князя А. И. Одоевского он уверял, что он, Одоевский, вовсе не либерал, а только предпочитает единодержавию тиранство вооруженного меньшинства. Но такие взгляды слишком далеки были от того, чтó думалось и говорилось кругóм, чтобы найти себе отзвук или сочувствие; да и высказывавшему их двадцатилетнему юноше еще много нужно было пережить и передумать, прежде чем выступить с более твердою и определенною проповедью народности. В нем самом еще кипели и страсти, и разнородные жизненные стремления, и сомнения в силе и смысле своего призвания. Это смутное борение самоопределяющагося сильного ума вылилось в стихотворении «Желание покоя «, написанном им в 1824 году в Петербурге, - первом его произведении, имеющем самостоятельное художественное значение. Среди неровностей слога и юношеских длиннот в этом стихотворении уже слышится порою будущий Хомяков; поэтому мы приводим его вполне.
Налей, налей в бокал кипящее вино!
Как тихий ток воды забвенья,
Моей души жестокие мученья
На время утолит оно.
Пойдем туда, где дышет радость,
Где бурный вихрь забав шумит,
Где глас души, где глас страстей молчит,
Где не живут, но тратят жизнь и младость.
Среди веселых игр, за радостным столом,
На миг упившись счастьем ложным,
Я приучусь к мечтам ничтожным,
С судьбою примирюсь вином.
Я сердца усмирю роптанье,
Я думам не велю летать,
На тихое небес сиянье
Я не велю глазам своим взирать.
Сей синий свод, усеянный звездами,
И тихая безмолвной ночи тень,
И в утренних вратах рождающийся день,
И царь светил, парящий над водами -
Они изменники! Они, прельщая взор,
Пробудят вновь все сны воображенья;
Подпись: • И сердце робкое, просящее забвенья,
Прочтет в них пламенный укор.
*
Оставь меня, покоя враг угрюмый,
К высокому, к прекрасному любовь!
Ты слишком долго тщетной думой
Младую волновала кровь.
Оставь меня! Волшебными словами
Ты сладкий яд во грудь мою влила
И вслед за светлыми мечтами
Мена от мира увлекла.
Довольный светом и судьбою,
Я мог бы жизненной стезей
Влачиться к цели роковой
С непробужденною душою.
Я мог бы радости с толпою разделять,
Я мог бы рвать земные розы,
Я мог бы лить земные слезы
И счастью в жизни доверять...
*
Но ты пришла. С улыбкою презренья
На смертных род взирала ты,
На их желанья, наслажденья,
На их бессильные труды.
Ты мне с восторгом, друг коварный,
Являла новый мир вдали
И путь высокий, лучезарный
Над смутным сумраком земли.
Там все прекрасное, чем сердце восхищалось.
Там все высокое, чем дух питался мой,
В венцах бессмертия являлось
И в след манило за собой.
*
И ты звала. Ты сладко напевала
О незабвенной старине,
Венцы и славу обещала,
Безсмертье обещала мне.
И я поверил. Обаянный
Волшебным звуком слов твоих,
Я презрел Вакха дар румяный
И чашу радостей земных.
Но что-ж? Скажи: за все отрады,
Которых я навек лишен,
За жизнь спокойную, души беспечный сон,
Какие ты дала награды?
Мечты неясные, внушенные тоской,
Твои слова, обеты и обманы,
И жажду счастия, и тягостные раны
В груди, растерзанной судьбой.
Прости....
(Продолжение 1-й части следует)
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #2 : 07 Октября 2015, 05:55:55 » |
|
(Продолжение 1-й части)
*
Но нет! Мой дух пылает
Живым, негаснущим огнем,
И никогда чело не просияет
Веселья мирного лучем.
Нет, нет! Я не могу цепей слепой богини,
Смиренный раб, с улыбкою влачить.
Орлу ль полет свой позабыть?
Отдайте вновь ему широкие пустыни,
Его скалы, его дремучий лес!
Он жаждет брани и свободы,
Он жаждет бурь и непогоды
И беспредельности небес.
Увы, напрасные мечтанья!
Возмите-ж от меня бесплодный сердца жар,
Мои мечты, надежды, вспоминанья,
И к славе страсть, и песнопенья дар,
И чувств возвышенных стремленья.
Возьмите все!
Но дайте лишь покой,
Безпечность прежних снов забвенья
И тишину души, утраченную мной.
Настоящая борьба была впереди, а теперь нужно было собраться с силами, привести в порядок роившиеся в голове мысли; нужно было на время уйти от шума и суеты столицы, отдохнуть и одуматься. Вероятно, по этим побуждениям, надеясь многое повидать и многому научиться, да и побыть с братом, служившим при посольстве в Париже, Хомяков просил у родителей позволения выйти в отставку и предпринять заграничное путешествие. Степан Александрович, всегда более податливый, тотчас на это согласился; но Марья Алексеевна сначала восстала против затеи сына, и только настояния Федора Степановича, любимца матери, убедили ее дать свое согласие. Вот чтó писал ей Федор Степанович 2 Февраля 1825 года из Парижа в Вюрцбург, где Марья Алексеевна в то время находилась ради лечения дочери. «J'ai reçu une lettre de mon père du 17 Décembre; sa santé paraissait un peu rétablie. Il m'annonce avoir permis à mon frère de quitter le service. Pour moi je pense qu 'Alexis ne peut faire mieux que de profiter de cette permission et de partir pour l'étranger. La perte d'un au de service n'est rien du tout dans les circonstances actuelles: il faut penser à l'avenir, et tous les jours je me raffermis dans la conviction, qu'avec le caractère de mon frère, un voyage à l'étranger lui est absolument indispensable en ce moment. Ce sera d'ailleurs le meilleur moyen pour rétablir sa santé; et quant aux dépenses, ellesne s'élèveront pas au quart de ce que lui aurait coûté la remonte. Je désirerais fortpour moi, et encore plus pour lui, qu'il vînt passer six à sept mois ici. Il végète à Petersbourg. L'indolence, l'apathie de son caractère y rend inutile l'activité de son esprit; à Paris tout l'exciterait. Je vous écrirai incessamment sur ce même sujet, mais plus au long, et j'espère alors vous convaincre entièrement»[iii].
Получив согласие матери, Хомяков тотчас вышел в отставку и уехал за границу, где провел около полутора года, с начала 1825 до конца 1826. Брата он уже не застал в Париже, так как Федор Степанович был тем временем переведен на службу в Петербург.
В Париже Хомяков занимался живописью в академии. Раз, когда ему долго не присылали денег, он взял заказ на запрестольный образ для католического храма, но работа эта была ему настолько не по душе, что он, как только получил деньги из дому, тотчас ее бросил. Вообще он и в Париже сохранил свое православное настроение и так строго соблюдал церковные обряды, что во весь Великий Пост съумел ни разу не оскоромиться.
В это время писал он свою трагедию «Ермак», о которой, Пушкин дал такой отзыв: «Ермак - лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии»[iv].
Внешняя форма, так сказать, бытовая оболочка трагедии очень далека от бытовой исторической действительности; но за этою внешностью, хоть и не вполне еще ясно, уже слышатся народные, общественные и человеческие идеалы автора. Отошедший в историю, как самостоятельное драматическое произведение, «Ермак» важен для нас в связи с последующим развитием мысли Хомякова. Он был поставлен в Петербурге в 1829 году, а напечатан через три года. Во время заграничной поездки Хомякова в журналах начали появляться его мелкие стихотворения.
Из Парижа, окончив «Ермака» и насмотревшись на знаменитого трагика Тальму, Алексей Степанович поехал в Швейцарию, оттуда в северную Италию и через земли западных славян вернулся в Россию. От этой первой заграничной его поездки осталась черновая рукопись небольшой статьи о зодчестве, в которой он, по поводу описания Миланского собора, задает себе вопрос о происхождении этого искусства и приходит к заключению, что первоначальным источником зодчества была религия, и что начала его нужно искать не у подражательных римлян, а у народов Востока, в Египте и в Индии. Таким образом, уже в эту раннюю пору жизни взоры Хомякова обращались к древнему Востоку. Воспоминанием о северной Италии навеяно стихотворение «Isola bella».
Алексей Степанович, вернувшись в конце 1826 года из-за границы, заехал прежде всего в Липицы к отцу, который всегда был к нему очень нежен и особенно волновался его литературными успехами. Оттуда он поехал в Боучарово с намерением помогать матери в ведении хозяйства. Но ладить с Марьей Алексеевной было не легко, а Алексей Степанович был тогда еще слишком молод, чтобы уметь быть покорным сыном во всех мелочах жизни, в чем он совершенно успел впоследствии. Совместное их хозяйство не пошло, и Хомяков месяца через два уехал в Петербург к брату. Здесь ждало его первое в жизни тяжелое горе: в марте 1827 года смерть в несколько дней унесла Дмитрия Веневитинова. Хомяков потерял в нем любимого друга, а Россия, быть может, одного из сильнейших своих поэтов. Изданная после его смерти маленькая книжечка стихов полна искрами такого огня, каким горят юношеские произведения лишь очень немногих избранников
Беда не пришла одна: в том же году Алексей Степанович схоронил другого нежно любимого товарища: своего двоюродного брата Василия Киреевского. Это двойное горе, а также и два года, проведенные в чужих краях, при постоянных занятиях искусством, не остались без следа в настроении молодого поэта. Его стихотворения 1827 - 1828 годов звучат несравненно бóльшею глубиною художественного замысла и зрелостью мысли. Таково, например, стихотворение «Молодость».
Небо, дай мне длани
Мощнаго Титана!
Я схвачу природу
В пламенных объятьях;
Я прижму природу
К трепетному сердцу,
И она желанью
Сердца отзовется
Юною любовью.
В ней все дышет страстью,
Все кипит и блещет,
И ничто не дремлет
Хладною дремотой.
*
На земле пылают
Грозные волканы;
С шумом льются реки
К безднам океана;
И в лазурном споре
Волны резво плещут
Бурною игрою.
*
И земля, и море
Светлыми мечтами,
Радостью, надеждой,
Славой и красою
Смертного дарят.
Звезды в синей тверди
Мчатся за звездами,
И в потоках света
Льется по эфиру
Тайной страсти голос,
Тайное призванье.
И века проходят,
И века родятся:
Вечное боренье,
Пламенная жизнь.
Небо, дай мне длани
Мощнаго Титана!
Я хочу природу,
Как любовник страстный,
Радостно обнять.
В стихотворении «Поэт» является впервые та сила стиха, которою отличаются позднейшие произведения Хомякова:
Он к небу взор возвел спокойный,
И Богу гимн в душе возник,
И дал земле он голос стройный,
Творенью мертвому язык.
В это время Алексей Степанович много рисовал в Эрмитаже и часто бывал у Мухановых, у Е. А. Карамзиной и у князя В. Ф. Одоевского. Об одном вечере у последнего А. И. Кошелев рассказывает так: «Проводили мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до трех часов ночи. Тогда хозяин дома напомнил, что уже поздно, и что лучше продолжить спор у него же на следующий день. Мы встали, начали сходить с лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерывали. Я завез Хомякова на его квартиру; он слез, я оставался на дрожках, а спор шел своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у которых мы стали, открывает форточку в своем окне и довольно громко говорит: «Mein Gott und Herr, was ist denn das?» (Боже мой, Господи, да что же это такое?) Мы расхохотались, и тем окончился наш спор».
III.
Вторичное поступление на службу. - Война 1828 - 1829 гг. - Москва. - Споры с друзьями. - Следы настроения Хомякова в его стихотворениях.
Когда началась война с турками, Федор Степанович Хомяков был назначен от Министерства Иностранных дел состоять при Паскевиче на Кавказе (где он в том же 1828 году и умер). Уезжая из Петербурга, он предложил брату поступить также на службу по дипломатической части при действующей армии. Алексей Степанович сначала согласился, но потом переменил намерение и снова вступил в военную службу, в Белорусский гусарский принца Оранского полк. В начале мая он был уже на Дунае, в сопровождении своего старого дядьки Артемия, некогда помешавшего ему бежать в Грецию. Во все продолжение войны Хомяков состоял адъютантом при генерале князе Мадатове, участвовал во многих делах и выказал блестящую храбрость. О Мадатове Алексей Степанович сохранил благодарную память и впоследствии принимал деятельное участие в составлении биографии князя, изданной служившими под его начальством офицерами. От этого времени сохранилось следующее письмо Хомякова к матери из под Шумлы: «Я получил ваше письмо и с удивлением вижу, что письма, писанные мною к вам и батюшке еще из России, именно из Киева, на синей бумаге, за неимением белой, со вложенными двумя маленькими песнями, сочиненными на дороге, (пропали)[v]. Я писал к вам также на первой станции за Дунаем, но отдал письмо на почте под Силистрией. Туда отправился я с главной квартирой, потом отделился от неё, присоединился к дивизии и к князю, который меня принял очень хорошо, был свидетелем славного дела 30-го мая, где визиря так жестоко разбил наш главнокомандующий, и потом действующим лицем в деле 31-го, где дивизия наделала чудеса, поколотила турок жестоко, гнала их до Шумлы, взяла редуты (вещь неслыханная для кавалерии) и знамен и пушек пропасть. Я был в атаке, но хотя раза два замахнулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень рад. После того подъехал к редуту, чтобы осмотреть его поближе. Тут подо мною была ранена моя белая лошадь, о которой очень жалею. Пуля пролетела насквозь через обе ноги; однако же есть надежда, что она выздоровеет. Прежде того она уже получила рану в переднюю лопатку саблею, но эта рана совсем пустая. За то я был представлен к Владимиру, но по разным обстоятельствам, не зависящим от князя Мадатова, получил только с. Анну с бантом; впрочем, и этим очень можно быть довольным. Ловко я сюда приехал, как раз к делам, из которых одно жестоко наказало гордость турок, а другое утешило нашу дивизию за все горе и труды прошлогодние. Впрочем, я весел, здоров и очень доволен Пашкою».
В лагере под Базарджиком 3 июля Хомяков написал стихотворение «Сон». К следующему 1829 году относятся стихотворения «Сонет», «Прощание с Адрианополем» и «Клинок». И так вдохновение нечасто посещало его среди тревог боевой жизни; но за то все три упомянутых стихотворения отличаются своею силою и законченностью формы.
(Окончание 1-й части следует)
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #3 : 07 Октября 2015, 05:56:42 » |
|
(Окончание 1-й части)Как только прекратились военные действия, Алексей Степанович взял отпуск и приехал в Москву, где в эту зиму его часто видали на балах Благородного Собрания. Однако он не танцовал, хотя, по отзывам очевидцев, к нему очень шел адъютантский мундир, и дамы часто выбирали его на мазурку. В это время пришлось ему быть действующим лицом в семейном торжестве. За несколько лет перед тем Марья Алексеевна привезла с Кавказа, куда ездила на воды, мальчика-черкеса Лукмана. Он воспитывался в её доме и, когда подрос, принял крещение 4 февраля 1830 года с именем Димитрия. Восприемником его был Алексей Степанович. Этот молодой человек, Дмитрий Степанович Кадзоков, вскоре поступил в Московский университет и, приезжая на летние вакации в Боучарово, пользовался постоянною дружбою своего крестного отца, отдававшего ему значительную часть своего времени. По заключении Адрианопольского мира, Хомяков вышел в отставку и проводил лето в Боучарове, постоянно и много читая, занимаясь хозяйством и охотясь, а зимою жил в Москве. То было время, когда русское образованное общество переживало одну из наиболее знаменательных переходных эпох своих. Еще недавно только миновало 14 декабря 1825 года со своими последствиями, и направление государственной политики вполне определилось. На поприще словесности Пушкин достиг вершины своей славы, а Гоголь еще не появлялся. Немецкая философия владела умами русской ученой молодежи. Мы видели, что Хомяков ранее принадлежал к тому тесному кружку юных философов, которого средоточием был покойный Д. В. Веневитинов; в него возвратился он и теперь, но возвратился уже не тем пылким и неустановившимся юношей, каким покинул Москву семь лет назад, а зрелым и самостоятельным мыслителем. Среди шеллингистов, гегелианцев и беззаветных приверженцев западного просвещения раздалось его слово о необходимости самобытного развития русской народности, об изучении старины и возвращении к её заветам, о Православии, как основе Русского народного характера, о значении Славянского племени в истории и о будущем мировом призвании России. То было слово новое, до тех пор неслыханное. Странно и дико звучало оно для огромного большинства тогдашнего образованного общества, называвшего русского мужика варваром и отождествлявшего Православную веру с постным маслом. Да и ближайшие слушатели и друзья Алексея Степановича держались тогда еще совсем иных воззрений. К Хомякову примыкал разве один только Петр Киреевский; но он по складу своего ума и характера, скромного и застенчивого, не был рожден проповедником. Более даровитый, старший брат его был еще далек от православно-русского образа мыслей, к которому обратился впоследствии. В 1832 году он начал издавать журнал «Европеец», который вскоре был запрещен. Хомяков печатал в нем свои стихи. Местом постоянных сборищ всего этого кружка был дом матери Киреевских, Авдотьи Петровны, по второму мужу Елагиной. Там, у Красных ворот, начались те бесконечные споры, которые потом, постепенно обостряясь, привели к резкому разделению двух направлений Русской мысли. Но тогда эти два течения еще не вполне определились; да и самому вождю направления народного нужно было еще много пережить и собрать вокруг себя новые, молодые силы. Между тем вспомним, что ему не было еще тридцати лет. Его живая, впечатлительная природа беспрестанно увлекалась то в ту, то в другую сторону, и тем поразительнее неуклонность развития его убеждений. В стихотворениях этого времени можно проследить такие перемены настроения. То внутренний голос упрекает его в минутном забвении своего призвания («Думы»), то в душу его закрадывается сомнение в себе («Два часа»): Но есть поэту час страданья, Когда восстанет в тьме ночной Вся роскошь дивная созданья Перед задумчивой душой; Когда в груди его сберется Мир целый образов и снов, Н новый мир сей к жизни рвется, Стремится к звукам, просит слов. Но звуков нет в устах поэта, Молчит окованный язык, И луч божественного света В его виденья не проник. Вотще он стонет исступленный: Ему не внемлет Феб скупой, И гибнет мир новорожденный В груди бессильной и немой. То недавние боевые образы встают перед ним, и он снова рвется на войну («Просьба»). Но над всеми этими мимолетными думами господствует одно светлое и строгое настроение верующей души, сознающей свое несовершенство: К небу подъемлю я очи с мольбой, Грех обливаю горячей слезой. В сердце взгляну я: там Божья печать - Грех мой покрыла Творца благодать («Из Саади»). В таком настроении написано стихотворение «На сон грядущий», которого конец является как бы пророчеством: Творец вселенной, Услышь мольбы полнощный глас! Когда Тобой определенный Настанет мой последний час, Пошли мне в сердце предвещанье! Тогда покорною главой, Без малодушного роптанья, Склонюсь пред волею святой. В мою смиренную обитель Да придет Ангел-разрушитель, Как гость издавна жданный мной! Мой взор измерит великана, Боязнью грудь не задрожит, И дух из дольнего тумана Полетом смелым воспарит. Наконец, в поэзии Хомякова начинают более определенно сказываться и его всеславянские идеи. Такова «Ода»: из неё виден взгляд его на отношения наши к полякам, против которых он не пошел служить в 1830 году. Потомства пламенным проклятьям Да будет предан тот, чей глас Против славян славянским братьям Мечи вручил в преступный час! Да будут прокляты сраженья, Одноплеменников раздор, И перешедший в поколенья Вражды безсмысленной позор; Да будут прокляты преданья, Веков исчезнувших обман, И повесть мщенья и страданья - Вина неисцелимых ран! * И взор поэта вдохновенный Уж видит новый век чудес: Он видит - гордо над вселенной, До свода синего небес, Орды Славянские взлетают Широким, дерзостным крылом, Но мощную главу склоняют Пред старшим, Северным орлом. Их тверд союз, горят перуны, Закон их властен над землей, И будущих Баянов струны Поют согласье и покой. Та же мысль, тот же поэтический образ в стихотворении «Орел», впервые стяжавшем Хомякову громкую славу между славянами: Высоко ты гнездо поставил, Славян полунощных орел, Широко крылья ты расправил, Далеко в небо ты ушел. Лети! Но в горнем море света, Где силой дышащая грудь Разгулом вольности согрета, О младших братьях не забудь. На степь полуденного края, На дальний Запад оглянись: Их много там, где гнев Дуная, Где Альпы тучей обвились, В ущельях гор, в Карпатах темных, В Балканских дебрях и лесах, В сетях тевтонов вероломных, В стальных татарина цепях. И ждут окованные братья, Когда же зов услышат твой, Когда ты крылья, как объятья, Прострешь над слабой их главой, О вспомни их, орел полночи, Пошли им звонкий свой привет, Да их утешит в рабской ночи Твоей свободы яркий свет! Питай их пищей сад духовных, Питай надеждой лучших дней, И клад сердец единокровных Любовью жаркою согрей. Их час придет: окрепнут крылья, Младые когти подростут, Вскричат орлы - и цепь насилья Железным клювом расклюют. В июне 1833 года Алексей Степанович уехал из Боучарова в Крым, но скоро был оттуда вызван, чтобы везти в Москву своего заболевшего дядю Степана Алексеевича Киреевского. В июле следующего 1834 года с отцом Хомякова в Липицах сделался нервный удар, после которого Степан Александрович впал в детство. Он прожил еще два года, скончался в апреле 1836 года и похоронен в Боучарове. Между тем в личной жизни Алексея Степановича наступила новая пора, для уяснения которой мы должны коснуться некоторых еще не затронутых нами сторон его воспитания и характера. _____________________________ [i ] Родство её с А. С. Грибоедовым в точности неизвестно. [ii] Слова эти представляют почти дословный перевод английской пословицы; "The public business of England is the private business of every Englishman". Здесь, как и везде, сказалось сочувствие Хомякова с английскою народною мыслью. [iii] Перевод. Я получил письмо от батюшки от 17 декабря. Здоровье его, повидимому, немного поправилось. Он извещает меня, что позволил брату выйти в отставку. Что касается до меня, то я думаю, что Алексей лучше всего сделает, если воспользуется этим позволением и уедет за границу. Потеря одного года службы не значит ничего при теперешних обстоятельствах: нужно думать о будущем; а я с каждым днем все более убеждаюсь, что при характере брата заграничное путешествие ему теперь безусловно необходимо. К тому же оно будет лучшим средством поправить его здоровье. Что до расходов, то они не составят и четвертой доли расходов по ремонту. Я бы очень желал для себя, и еще более для него, чтобы он приехал сюда месяцев на шесть или на семь. Он прозябает в Петербурге. От беспечности и апатии его характера пропадает без пользы деятельность его ума, а в Париже все бы его возбуждало. Я вскоре буду писать вам об этом, но подробнее, и тогда надеюсь убедить вас совершенно. [iv] О лирических стихотворениях Хомякова Пушкин с похвалою отзывается в предисловии к «Путешествию в Арзрум». [v] Слово это пропущено в письме. _________________________________ http://ruskline.ru/analitika/2015/11/05/aleksej_stepanovich_homyakov_ego_zhizn_i_sochineniya/
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #4 : 08 Октября 2015, 05:48:59 » |
|
Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочиненияКо дню памяти. Часть 2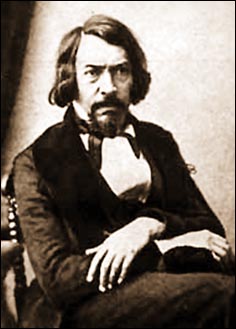 Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938). Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938).
Это первое монографическое сочинение об А.С. Хомякове.
В.Н. Лясковский окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» он познакомился с И.С. Аксаковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского комитета, был и в теплых отношениях с А.Ф. Аксаковой (в архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И.С. Аксакова «Русь».
С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение «Дмитровское-Истомино». По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка), братьев И.В. и П.В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича - Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В.Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. - 1896. - Кн.3.- С. 337-510; Отд. изд.- М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и труды их. - СПб., 1899.- 99 с.).
После революции В.Н. Лясковский жил в Орле, писал воспоминания. Арестован (1937), погиб в заключении.
Публикацию (в сокращении) специально для Русской Народной Линии (по первому отдельному изданию: Лясковский В.Н. А.С. Хомяков. Его жизнь и сочинения.- М.: Универ. тип., 1897.- VIII, 176, II с.) подготовил профессор А. Д. Каплин. Постраничные сноски автора заменены концевыми. Деление текста в Интернет-издании на 3 части - составителя (при этом авторское разделение сохранено без изменения).
+ + + IV.Отношение к женщинам. - Женитьба. - Е. М. Хомякова. - Дети. Перелом, совершающийся в жизни человека при вступлении из отроческого возраста в юношеский, при входе «в те лета, когда нам кровь волнует женский лик», бывает бесконечно разнообразен; и если сколько голов, столько умов, то едва ли не с большим еще правом можно сказать тоже о жизни сердца и о первом пробуждении страстей. В простых условиях крестьянского быта и эта сторона жизни проста и немногосложна; исключения, к счастью для народа, до сих пор еще редки. Но чем выше станем мы подниматься по общественной лестнице, тем больше увидим борьбы и отклонений от правого пути. Мальчик, принадлежащий к верхнему слою общества, подвержен с детства стольким воздействиям, возбуждающим воображение и чувственность, что разве только чудом может он не развиться ранее положенной природою поры; и редко такое развитие не сопровождается напрасною тратою душевных и телесных сил, и большею или меньшею потерею нравственной чистоты, переходом от невинности к пороку. Городская и в особенности столичная жизнь полна соблазнов. В деревне этих соблазнов нет, но за то есть другие. Много их и теперь; еще больше было в старом помещичьем быту, не привыкшем к стеснениям и потому так часто переходившем в разгул. Немного есть родителей, которые понимают свою обязанность внушать детям сначала безсознательный, а потом и определенный верный взгляд на отношения мужчины к женщине и воспитывать в них твердые правила нравственности и чести. Еще меньше найдется таких, которые, сознавая эту обязанность, умеют вó время ее исполнить. Большинство иди вовсе не думает об этом, или считает своих детей моложе их действительного жизненного возраста. Жизнь застает их врасплох, и им приходится действовать по пословице: пришла беда, отворяй ворота. Не такова была Марья Алексеевна Хомякова. Мы видели, как вела она своих сыновей с детства, какие благотворные начала вынесли они из родительского дома. И вот на пороге его, перед выходом их на широкий путь жизни, она завершила их воспитание поступком бывшим вполне в её духе и согласным с тем, как она понимала жизнь и обязанности честного человека. Когда её сыновья пришли в возраст, она призвала их и объяснила им свой взгляд на эти обязанности, состоявший в том, что мужчина, вопреки общепринятым понятиям о его относительной свободе, должен также строго блюсти свою чистоту, как и девушка. Поэтому она потребовала от сыновей клятвы, что они до брака не вступят в связь ни с одною женщиною, прибавив к этому, что кто из них нарушит клятву, тому она откажет в своем последнем благословении. И клятва была дана. Таковы были правила, которые Хомяков вынес из дому, с которыми он, двадцатилетний гвардейский корнет, очутился в Петербурге. И он не отступил от них, не нарушил данной матери клятвы. Мы не знаем, как справлялся он со своею горячею кровью; но из его стихов видим, что он несколько чуждался женщин. К скромности, частью природной, частью внушенной воспитанием, присоединилось в нем чрезвычайно высокое представление об идеале женщины, осуществления которого в жизни он искал, но все еще не находил. Двадцати шести лет он писал («Признание»): Досель безвестна мне любовь И пылкой страсти огнь мятежный; От милых взоров, ласки нежной Моя не волновалась кровь. Так сердца тайну в прежни годы Я стройно в звуки облекал И песню гордую свободы Цевнице юной поверял. Надеждами, мечтами славы И дружбой верною богат, Я презирал любви отравы И не просил её наград. С тех пор душа познала муки, Надежд утрату, смерть друзей, И грустно вторит песни звуки, Сложенной в юности моей. Я под ресницею стыдливой Встречал очей огонь живой, И длинных кудрей шелк игривой, И трепет груди молодой, Уста с приветною улыбкой, Румянец бархатных ланит, И стройный стан, как пальма гибкий, И поступь легкую харит. Бывало, в жилах кровь взыграет, И страха, радости полна, С усильем тяжким грудь вздыхает, И сердце шепчет: вот она! Но светлый миг очарованья Прошел как сон, пропал и след: Ей дики все мои мечтанья, И непонятен ей поэт. Когда ж?... И сердцу станет больно, И к арфе я прибегну вновь, И прошепчу, вздохнув невольно: Досель безвестна мне любовь. Итак, тем девушкам (нечего, кажется, прибавлять, что Хомяков с его понятиями о любви не мог «ухаживать» за замужними женщинами) тем девушкам, на которых он обращал внимание были дики его мечтанья. Так случилось и с известною чаровницею тогдашней молодежи, Александрою Осиповною Россет. Встретившись с нею в Петербурге, Хомяков, повидимому, как и все в начале, увлекся ею; Но ей чужда моя Россия, Отчизны дикая краса, И ей милей страны другие, Другие лучше небеса, Пою ей песнь родного края - Она не внемлет, не глядит; При ней скажу я: «Русь святая», - И сердце в ней не задрожит. И тщетно луч живого света Из черных падает очей: Ей гордая душа поэта Не посвятит любви своей. Прочитав эти стихи, так и озаглавленные «Иностранке», А. О. Россет жестоко обиделась на разборчивого поэта, а он между тем прожил до тридцати лет со свободным сердцем. Наконец настал и его черед. Здесь мы возвращаемся к нашему прерванному рассказу. В 1834 году Алексей Степанович встретился в Москве с племянницею Пашковых, Зинаидою Николаевною Полтавцевою, и страстно в нее влюбился. На предложение быть его женою[i ] она отвечала отказом, однако сохранила о нем доброе воспоминание и замуж не вышла. В чудном стихотворении Когда гляжу, как чисто к зеркально Твое чело, поэт излил свою сердечную тоску. Тем же настроением, но уже несколько успокоенным, навеяны стихотворения «Элегия» и «Благодарю тебя». Душа переболела, ум вступил в свои права. Хомяков вышел из этого испытания окрепшим и просветленным и мог сказать про себя: Так раненый слегка орел уходит выше В родные небеса. И он снова вернулся к своим думам, к своему жизненному подвигу. В стихотворениях «Мечта», «Ключ» и «Остров», перед нами является прежний спокойный мыслитель, прежний пламенный пророк. Но уже близко было то счастье, которого он так долго и так напрасно искал. Через поэта Н. М. Языкова, принадлежавшего к кружку Киреевских, Алексей Степанович познакомился с его сестрою Катериною Михайловною, и 5 июля 1836 года они были обвенчаны[ii]. За несколько дней перед тем сестра Алексея Степановича, Анна Степановна, вышла замуж за своего дальнего родственника Василия Ивановича Хомякова. Для всякого человека, за редкими исключениями, брак бывает поворотною точкою в жизни; но резкость этого поворота не для всех одинакова. Большинство мужчин из верхних слоев общества женятся, уже искусившись в любви, а часто и в разврате. Худшие не меняют после того своих привычек или скоро к ним возвращаются; лучшие - оставляют эти привычки, делаются примерными мужьями и отцами, но так и считают, что они пожили - и довольно, что «личная жизнь» кончена, что молодость прошла. Лишь весьма немногие приносят в семью нетронутое сердце и думают, что настоящая жизнь тут-то и начинается. О Хомякове и этого сказать мало. Не допуская и мысли об игре в любовь, но от юности нося в душе чистый и ясный идеал женщины и семьи, он из года в год, томясь и тоскуя, тщетно искал его осуществления. Первое сильное его чувство не нашло себе отклика; но светлая мечта его души от того не померкла, а загорелась еще ярче и, как далекая звезда, наконец привела его к давно желанной цели. Умудренный жизнью, но сохранив всю цельность нетронутого чувства, он внес в брак истинное целомудрие. Вопреки тому, как бывает обыкновенно, этот тридцатидвухлетний жених был равен по нравственной чистоте своей восемнадцатилетней невесте. Клятва, данная матери, была сдержана, и не телесно только, но и духовно. Таков был этот союз. Мог ли он не привести к счастию? И действительно, счастие было полное, какое только доступно человеку на земле. Этим счастием дышит каждое слово, дошедшее до нас из этого времени жизни Алексея Степановича и его молодой жены. Нужно заметить, что если для Хомякова семья была жизненным идеалом, то он редко где мог найти, себе такую жену, как в необыкновенно дружной Языковской семье. Катерина Михайловна как бы создана была для воплощения того, о чем мечтал Алексей Степанович. Когда читаешь её письма и вслушиваешься в рассказы людей ее знавших, то изумляешься полному отсутствию в ней всего резкого, всего бросающагося в глаза, её полной, безусловной простоте. Катерина Михайловна, скромная и очень застенчивая, с точки зрения испорченного светского вкуса была женщина совсем обыкновенная, то есть в ней не было ровно ничего бьющего на эффект. Она была хороша собой, но красотой не поражала; умна, но об её уме не кричали; полна умственных интересов и образована, но без всяких притязаний на ученость, Словом, это было вполне, если можно так выразиться, художественно-гармоничное существо; а таким был и сам Хомяков. Отсюда их сродство и редкое счастие, для многих мало понятное. Хомяков не суживался в семейной жизни и не снисходил до неё, как многие умники: для него семья была «святая святых», где почерпал он вдохновение и силу и куда никого со стороны не допускал... Но лучше всего это настроение выражается его же стихами, написанными через два года после свадьбы: Лампада поздняя горела Пред сонной лению моей, И ты взошла и тихо села В слияньи мрака и лучей. Головки русой очерк нежный В тени скрывался, а чело - Святыня думы безмятежной - Сияло чисто и светло. Уста с улыбкою спокойной, Глаза с лазурной их красой, Все тихим миром, мыслью стройной В тебе дышало предо мной. Ушла ты - солнце закатилось, Померкла хладная земля; Но в ней глубоко затаилась От солнца шаркая струя. Ушла! Но Боже, как звенели Все струны пламенной души, Какую песню в ней запели Оне в полуночной тиши! Как вдруг и молодо, и живо Вскипели силы прежних лет, И как вздрогнул нетерпеливо, Как вспрянул дремлющий поэт! Как чистым пламенем искусства Его зажглася голова, Как сны, надежды, мысли, чувства Слилися в звучные слова! О, верь мне: сердце не обманет, Светло звезда моя взошла, И снова яркий луч проглянет На лавры гордого чела. Войдя в новую семью, Катерина Михайловна сразу стала тем, для чего была рождена и воспитана: верною женою и послушною дочерью. Она смирялась перед свекровью, которой крутой нрав и ей доставлял немало горьких минут; а чем она была для мужа, это прекрасно выразил в посвященных ей стихах её брат H. М. Языков: Дороже перлов многоценных Благочестивая жена! Чувств непорочных, дум смиренных И всякой тихости полна, Она достойно мужа любит Живет одною с ним душой, Она труды его голубит, Она хранит его покой. И счастье мужа - ей награда И похвала, и любо ей, Что меж старейшинами града Он знатен мудростью речей, И что богат он чистой славой И силен в общине своей. Она воспитывает здраво И бережет своих детей: Она их мирно поучает Благим и праведным делам, Святую книгу им читает, Сама их водит в Божий храм. Она блюдет порядок дома, Ей мил её семейный круг, Мирская праздность незнакома, И чужд безсмысленный досуг. Не соблазнят её желаний Ни шум блистательных пиров, Ни вихрь полуночных скаканий И сладки речи плясунов, Ни говор пусто-величавый Бездушных, чопорных бесед, Ни прелесть роскоши лукавой, Ни прелесть всяческих сует. И дом её боголюбивый Цветет добром и тишиной, И дни её мелькают живо Прекрасной, светлой чередой; И никогда их не смущает Обуревание страстей: Господь ее благословляет, И люди радуются ей. «В детях оживает и, так сказать, успокоивается взаимная любовь родителей», сказал впоследствии Хомяков. Легко себе представить, чем были дети для молодых супругов. У них родились один за другим сыновья Степан и Федор. Они были оба болезненны, особенно маленький Степанчик, и оба умерли в 1838 году. Памяти их посвящено стихотворение «К детям» Бывало, в глубокий полуночный час Малютки, приду любоваться на вас; Бывало, люблю вас крестом знаменать, Молиться, да будет на вас благодать, Любовь Вседержителя Бога. Стеречь умиленно ваш детский покой, Подумать о том, как вы чисты душой, Надеяться долгих и счастливых дней Для вас, беззаботных и милых детей - Как сладко, как радостно было! Теперь прихожу я: везде темнота, Нет в комнатке жизни, кроватка пуста, В лампаде погас пред иконою свет... Мне грустно: малюток моих уже нет - И сердце так больно сожмется! О дети! В глубокий полуночный час Молитесь о том, кто молился о вас, О том, кто любил вас крестом знаменать; Молитесь, да будет и с ним благодать, Любовь Вседержителя Бога. Впоследствии у Хомяковых было семеро детей: пять дочерей и два сына. V.Жизнь в Москве и деревне. - Заграничное путешествие. - Отношение Хомякова к своим произведениям. - Литературные противники, единомышленники и друзья. - K. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин. - Валуев. - Сочинения Хомякова. Со времени женитьбы и до конца внешний распорядок жизни Алексея Степановича почти не менялся. Московский дом, в котором прошла его ранняя молодость, был отдан в приданое за Анной Степановной, которая через три года скончалась, а Алексей Степанович с женой поселились в наемной квартире. Долее всего прожили они на Арбате, против церкви Николы Явленного, а оттуда осенью 1844 года переехали на Собачью площадку, в собственный дом, купленный у князей Лобановых-Ростовских, в котором с тех пор и жили постоянно. Весною Алексей Степанович уезжал в деревню довольно поздно, часто в июне, но за то осенью, как страстный охотник, заживался там долго. И он, и его жена очень любили Липицы, но проводили лето больше в Боучарове, которое было удобнее для житья и, как главное имение, требовало большего присмотра. Здесь почти всегда бывал кто-нибудь, чаще всего ближайшие соседи, Ротмистров, Булыгин и Загряжский; постоянным же собеседником Алексея Степановича и соучастником в любимой его игре на биллиарде был его управляющий Василий Александрович Трубников, которого Хомяков очень любил. Дети Трубникова, и особенно сын его Сеничка, большой шалун, часто приходили играть с детьми Хомякова. Марья Алексеевна не одобряла такого общества, но сын в этом её не слушал. Вообще же Марья Алексеевна никогда не переставала горевать о своем старшем сыне, а Алексея Степановича любила журить и бранить, чтó он с необыкновенным терпением переносил. Между прочим она постоянно упрекала его в плохом управлении имениями, чтó было несправедливо, ибо Алексей Степанович в действительности устроил дела и заплатил множество долгов. На самом деле старуха не могла простить сыну его, по её мнению, либерального и протестантского образа мыслей, бороды и нежелания служить. Сама она доходила во внешних выражениях своей набожности до крайних пределов. Итак, жизнь Хомякова делилась между Москвою и его деревнями, которые он объезжал довольно часто. Изредка ездил он в Петербург, по разу был в Киеве, Крыму и на Кавказе. В 1847 году он с женою и двумя старшими детьми ездил за границу, посетил Германию, Англию, Францию и Прагу. Цель этого путешествия была, вероятно, двоякая: Алексей Степанович хотел показать своей жене великие произведения искусства, и побывать в Англии, земле, наиболее привлекавшей его на Западе. В Праге, тогдашнем средоточии только-что пробудившейся Западно-славянской мысли, Хомяков познакомился с Ганкою и в его альбом написал следующие знаменательные строки: «Когда-то я просил Бога о России и говорил: Не дай ей рабского смиренья, Не дай ей гордости слепой И дух мертвящий, дух сомненья В ней духом жизни успокой. . Эта же молитва у меня для всех славян. Если не будет сомненья в нас, то будет успех. Сила в нас, только бы не забывалось братство. Что я это мог записать в книге вашей, будет мне всегда помниться, как истинное счастие». К этому времени относится стихотворение «Беззвездная полночь дышала прохладой». В следующем году Хомяков напечатал свое «Письмо об Англии», в котором он с изумительною для иностранца чуткостью несколькими чертами изображает основные особенности английского быта. Показав неосновательность ходячих мнений об англичанах, он определяет сущность социальной борьбы вигов и ториев и с необыкновенною теплотою описывает любовь англичан к их старине, любовь, подобную которой так хотелось Алексею Степановичу видеть в своих соотечественниках. Указав на успехи рационалистического вигизма, он кончает свою статью словами: «Конечно Англия еще крепка, много живых и свежих соков льется в её жилах; но дело вигов идет вперед неудержимо. Звонко и мерно раздаются удары протестантского топора, разрубаются тысячелетние корни, стонет величавое дерево. Не верится, чтобы земля, воспитавшая так много великого, давшая так много прекрасных примеров человечеству, разнёсшая свет христианства и славу имени Божия по отдаленнейшим концам мира, могла погибнуть; а гибель неизбежна, разве (и дай Бог, чтоб это было), разве примет она новое духовное начало, которое притупило бы острие протестантского топора, залечило бы уже нанесенные раны и укрепило ослабленные корни. Но будет ли это? Я взошел на Английский берег с веселым изумлением, я оставил его с грустною любовью». (Продолжение 2-й части следует)
|
|
|
|
« Последнее редактирование: 08 Октября 2015, 05:56:30 от Александр Васильевич »
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #5 : 08 Октября 2015, 05:52:28 » |
|
(Продолжение 2-й части)
С выхода в отставку Хомяков никогда более не служил и потому мог свободно располагать своим временем. Помимо хозяйства и чтения (а читал он все, чтó только заслуживало внимания) он продолжал писать. Но скоро стало, ясно, что его поэтическое дарование не есть средоточие его творческих способностей. Впоследствии, сравнивая себя с Ф. И. Тютчевым, которого он называл «насквозь поэтом», Хомяков писал: «Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, то есть прозатор везде проглядывает и следовательно должен наконец задушить стихотворца». Мы, быть может, не согласимся с таким бесповоротным самоосуждением; но нельзя отрицать того, что поэтическая стихия не была жизнию для Хомякова. От времени до времени он писал чудные стихи, но бывали у него и долгие промежутки без вдохновения. Кроме небольших стихотворений, он после «Ермака» написал еще драму «Дмитрий Самозванец», произведение полное отдельных, преимущественно лирических красот, но окончательно доказавшее самому поэту, что он лишен силы драматургической. Ему предназначено было другое поприще; но пока он еще не выступал на него, не записывал рождавшихся в его голове мыслей, а ограничивался тем, что высказывал их в спорах. А. И. Кошелев рассказывает, что впоследствии, на упреки в том, что он слишком много говорит и слишком мало пишет, Хомяков отвечал: «Изустное слово плодотворнее писанного; оно живит слушающего и еще более говорящего. Чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее, и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова произнесенные и слышанные коренистее слов писанных и читанных». И на самом деле, сила его слова было поразительна: в том согласны все, друзья и недруги, оставившие нам воспоминания о нем. За страсть к спорам недальновидные люди называли Хомякова софистом и лицемером, потому что он часто для уяснения какого-нибудь вопроса, о котором спорили два безнадежно-несогласные собеседника, становился то на сторону одного, то на сторону другого и в конце концов доказывал обоим несостоятельность их доводов и приводил их к истине. Спорить с ним было очень трудно, почти невозможно. Но за то, когда, увлекшись, он начинал излагать свои любимые мысли, особенно говорить о вере, о призвании России, то диалектик исчезал, и слово его звучало вдохновением пророческим.
Мы уже назвали выше нескольких друзей, составлявших первый и ближайший кружок Хомякова. К концу тридцатых годов в Москве собрались все те силы, которыми прославилась последующая четверть века. На ученое и литературное поприще выступили первые противники провозглашенного Хомяковым Русского направления: Герцен, Грановский, Белинский, потом Соловьев и Кавелин; рядом с ним явились сторонники направления национального в тесном смысле, Шевырев и Погодин. Все это были, кроме немногих, люди так или иначе причастные к Университету, представители, если можно так выразиться, присяжной науки, процветшей под покровительством попечителя графа Строганова. Проповедь Хомякова нашла себе в начале лишь немногих последователей. Почти одновременно с обращением к православному образу мыслей И. В. Киреевского, Хомяков сошелся с молодыми людьми K. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, А. Н. Поповым и некоторыми другими. Тогда же впервые появился в Москве Гоголь, с которым Хомяков вскоре подружился. Если прибавим имена брата Е. М. Хомяковой, H. М. Языкова, с его другом К. А. Коссовичем, её племянника Дмитрия Александровича Валуева, старика С. Т. Аксакова, выступившего несколько позднее, младшего сына его Ивана Сергеевича, братьев Елагиных и Ф. В. Чижова: то получим почти полную картину того кружка, в котором вращался в то время Хомяков. Еще позже к нему присоединился князь В. А. Черкасский.
Та юношеская свежесть чувства, которую Хомяков сохранил до зрелого возраста, сказалась не в одних только указанных нами отношениях к жене: таков был он и в дружбе. Сходясь с людьми, которые были моложе его на много лет, он заставлял их забывать разницу возраста. Такова была его дружба с Константином Аксаковым и Юрием Самариным. Вот как определяет их троих И. С. Аксаков:
«Творчество мысли, страстное к ней отношение, рьяность проповеди принадлежали собственно K. С. Аксакову. Он был не только философ, но еще более поэт (не в смысле только стихописания), и строгий логический вывод, даже в научных исследованиях, почти всегда упреждался в нем каким-то художественным откровением».
«Природа Самарина была совершенно противоположна природе K. С. Аксакова. Если Самарину не доставало творчества и почина, то он превосходил своего друга ясностью, логическою крепостью и всесторонностью мысли, зоркостью аналитического взгляда. Его требования в мышлении были несравненно строже; его логики не могли подкупить никакие сочувствия и влечения. Он не только ничего не принимал на веру, но в противуположность своему другу был исполнен недоверия к самому себе и подвергал себя постоянно аналитической проверке. K. С. Аксаков был рожден оратором и говорил лучше, чем писал. Самарин никого не увлек, подобно ему, художественностью и страстностью речи; но, доведя мысль до совершенной отчетливости, он выражал ее в устном и письменном слове с такою точностью и прозрачностью, в такой неотразимой последовательности логических выводов, что это составляло красоту своего рода».
«В обществе, в котором они появились вместе в 1840 году, встретили они Хомякова, и эта встреча была решающим событием в их жизни. Он превосходил их не только зрелостью лет, опытом жизни и универсальностью знания, но удивительным, гармоническим сочетанием противоположностей их обеих натур. В нем поэт не мешал философу, и философ не смущал поэта; синтез веры и анализ науки уживались вместе, не нарушая прав друг друга, напротив - в безусловной, живой полноте своих прав, без борьбы и противоречия, но свободно и вполне примиренные. Он не только не боялся, но признавал обязанностью мужественного разума и мужественной веры спускаться в самые глубочайшие глубины скепсиса, и выносил оттуда свою веру во всей её цельности и ясной, свободной, какой-то детской простоте. Он презирал веру робкую почиющую на бездействии мысли и опасающуюся анализа науки. Он требовал лишь, чтобы этот анализ был доводим до конца».
Сближение с Хомяковым окончательно определило направление Аксакова и Самарина. Первый примкнул к Хомякову раньше; для второго, по складу его ума, борьба была труднее и болезненнее, и лишь после долгого и мучительного разлада с самим собою он достиг полного внутреннего примирения[iii].
Но еще раньше связи с Аксаковым и Самариным, Хомяков всей душой привязался к племяннику своей жены, молодому Валуеву, который, учась в университете, жил у него.
Дмитрий Александрович Валуев, умерший в молодых годах, был редким образчиком соединения блестящих дарований с неутомимым трудолюбием. Во всю свою недолгую жизнь он не только сам без устали работал, но и показал другим, как нужно работать. Изданный им «Сборник исторических и статических сведений о России и о народах ей единоверных и единоплеменных», к которому Хомяков написал введение, был первою книгою, послужившею выражением только что народившегося Русского направления. Хомякова, который горячо полюбил Валуева, этот последний с 1836 года и до самой своей смерти в 1845 году постоянно побуждал писать. «Он менее всех говорит, он почти один делает», писал о нем Хомяков Языкову. После смерти Валуева в письме к Ю. Ф. Самарину Хомяков говорит: «Из нашего круга отделился человек, которого никто мне никогда не заменит, человек, который мне был и братом, и сыном. Этот удар был для меня невыразимо тяжел; но, отвлекая себя от личного чувства, я могу сказать, что это потеря невознаградимая для всех нас. Его молодость, деятельность, чистота, миротворящая, хотя ни в чем не уступающая, кротость нрава и, наконец его совершенная свобода и независимость от лиц и обстоятельств, все делало его драгоценнейшим из всех сотрудников в общем деле добра и истины. Богу угодно было, чтобы такая прекрасная жизнь рано кончилась; но, к счастию, Валуев многое начал, и начатое им, я надеюсь, не пропадет, а продолжится. Вы, конечно, сочувствуете моему горю, но никто не может вполне оценить, чтó я в Валуеве потерял и как много я ему обязан был во всех самых важных частях моей умственной деятельности. Во многом он был моей совестью, не позволяя мне ни слабеть, ни предаваться излишнему преобладанию сухого и логического анализа, к которому я по своей природе склонен. Если что-нибудь во мне ценят друзья, то я хотел бы, чтобы они знали, что в продолжение целых семи лет дружба Валуева постоянно работала над исправлением дурного и укреплением хорошего во мне».
Валуев дал первый внешний толчок прозаическим писаниям Хомякова, который до тех пор, кроме упомянутой нами выше юношеской статейки о зодчестве, да напечатанной в 1835 году небольшой статьи о чересполосном владении, ничего не писал в прозе. Будучи ежедневным свидетелем того, как Алексей Степанович расточает в разговоре сокровища своего ума и познаний, и не придавая никакой цены словесной передаче мыслей, Валуев стал неотступно требовать от Хомякова, чтобы он записывал то, чтó говорил и взял с него честное слово, что он один час в день будет писать. На первый раз он даже запер своего старшего друга на ключ в его кабинете. Так положено было начало Запискам Хомякова о всемирной истории. Раз как-то Гоголь застал его за писанием и, заглянув в тетрадь, увидал в ней имя Семирамиды; он сказал кому-то, что Хомяков пишет Семирамиду. Так это название и осталось за этой работаю, и впоследствии сам Хомяков иначе её и не называл. Записки эти он вел в продолжение всей своей жизни, свято исполняя данное покойному другу слово.
Этот обширный труд, представляющий собственно подробную схему всемирной истории, заключает в себе бесчисленное множество новых и светлых мыслей. Некоторым из этих мыслей суждено было войти в науку много лет спустя. С этой точки зрения Записки Хомякова - богатый источник для будущих историков, которые будут изумляться необычной силе его исторического провидения, часто на основании самых скудных данных угадывавшего то, чтó долго скрывалось от проницательности ученых. Но в этом и слабая сторона «Семирамиды». В то время, когда она писалась, археология и историческая критика многого еще не открыли, и Хомяков, при всей своей проницательности, часто вводим был в заблуждение недостатком точных данных. Значение Записок прекрасно выяснено в предисловии к ним, написанном их издателем А. Ф. Гильфердингом, которого Алексей Степанович всегда высоко ценил. Гильфердинг так передает, со слов самого Хомякова, его взгляд на научное значение своего труда: «Все книги о всемирной истории, говорил он, кажутся ему совершенно неудовлетворительными; они грешат тем, что история рассматривается в них с чисто внешней стороны и притом крайне односторонне. Односторонность в них во-первых та, что история, хотя и называется всемирною, сосредоточивается почти исключительно в народах Европейских, великая же и тысячелетняя историческая жизнь других племен земного шара отодвигается на задний план и притом не приводится ни в какую органическую связь с судьбами привилегированных, так сказать, народов Европы. Во вторых, между народами Европы выводятся на сцену лишь народы классической древности и западного мира, громадное же племя Славянское оставляется в тени, и роль его также не связывается с общим ходом мировой жизни. Внешний же, механический характер имеют книги о всемирной истории главнейшим образом потому, что они слишком мало понимают и ценят то начало, которое существеннейшим образом обусловливает строй человеческого общества и его внутренние стремления, именно религию. Итак, Хомяков поставил себе задачею изложить схему, каким образом всемирная история должна быть написана, чтобы, во-первых, жизнь всех племен земного шара была поставлена в надлежащее отношение; чтобы, во-вторых, Славянскому племени возвращено было подобающе ему место, и чтобы, в-третьих, видно было действие тех внутренних сил, которыми обусловливался ход исторического развития разных народов, и в особенности главнейшей из этих сил - религии».
«Ему не было суждено, говорит Ю. Ф. Самарин, «не только довести до конца великий задуманный им труд, но даже воспользоваться тем, что уже было им исполнено; а чего он не успел совершить, того, конечно, не возмет на себя никто. Мы можем только сохранить для потомства богатое наследство его мысли в том виде в каком оно до нас дошло. Нет сомнения, что в таком обширном, многосложном и окончательно непроверенном труде, каковы Записки Хомякова, найдутся недосмотры, ошибки, противоречия и произвольные, а еще чаще неоправданные догадки; на них укажут, их исправят специалисты коротко знакомые с источниками, и в тоже время, мы в этом не сомневаемся, они оценят по достоинству великий ученый подвиг покойного автора. Представители ремесленности в науке, не находя на его труде своего цехового штемпеля, отвернутся от него с пренебрежением; одно отсутствие разделения на главы и рубрики надолго доставит поживу самодовольной критике. Мы предоставляем ей это легкое торжество над трудом, который, в этом отношении, является перед нею безоружным. Большинство читателей найдет в нем чтение, конечно не легкое, но которое с избытком вознаградит всякое усилие мысли. За последнее можно смело поручиться».
Сочинение свое по всемирной истории Хомяков не назначал к печати, по крайней мере в том виде, в каком оно осталось после него; и так как он не успел его окончить, то его и нельзя признавать трудом вполне цельным. Но сам он считал эту работу настоящим своим делом и в одном письме к С. П. Шевыреву говорил: «К несчастию я так ленив, что всякая статья отрывает меня от труда постоянного, и поэтому я должен только позволять себе труд эпизодический, когда вижу или чувствую в душе необходимость высказать свою мысль». Эти слова знаменательны: ими объясняется как все последующее распределение занятий Хомякова, так и неизбежная отрывочность его статей. За двадцать лет с 1840 по 1860 год он в сущности написал много и успел, в большей или меньшей степени, высказаться по всем занимавшим его вопросам; но, считая, как видно из только что приведенного письма, свои статьи случайным выражением мыслей, он никогда не думал о приведении их в какую бы то ни было систему. Напротив, «Записки» свои вел он, придерживаясь строгого, наперед обдуманного плана, и только одно это его произведение и носит характер сочинения систематического, тогда как отдельные статьи являются как бы эпизодами его умственной деятельности. Поэтому для полного уразумения Хомякова необходимо последовательное изложение его мыслей, освобожденных от тех рамок, в которых эти мысли заключены и разбросаны по отдельным его статьям. Опыт такого изложения мы даем во второй части настоящего труда; здесь же будем указывать на отдельные статьи лишь постольку, поскольку это необходимо для рассказа о его жизни и для уяснения его личности.
VI.
Славянофильство. - Отношение к нему правительства и общества. - Взгляд Хомякова на призвание его сотрудников.
Подавая по временам голос в статьях и стихах и постоянно работая над «Семирамидою», Хомяков продолжал предпочитать устное слово писанному и неустанно развивал свои мысли в горячих спорах с друзьями и противниками. Последние постепенно выделились в виде «Западников», а Хомякова и его сторонников прозвали «Славянофилами», воскресив, по поводу их сочувствия Славянам, это старое слово, прилагавшееся некогда к Шишкову и другим защитникам Церковнославянского языка в русской словесности [iv].
Так началось Славянофильство.
Трудно было положение этих немногочисленных борцов мысли. Еще ни одно новое умственное направление не встречало при своем возникновении такого единодушного недоверия со стороны всей окружающей среды, недоверия, порою переходившего в ненависть. Можно без преувеличения сказать, что с самых первых шагов славянофильства отношение к нему правительства и общества представляло собою одно сплошное недоразумение, в значительной мере продолжающееся и до сих пор. Истинных мнений славянофилов в их последовательности огромное большинство их порицателей не только не знало, но и не хотело знать: подхватывались их конечные выводы по отдельным вопросам, перетолковывались вкривь и вкось и в таком виде подвергались осмеянию и преследованию. Проповедь широкой духовной свободы обзывалась насильничеством, потому что требовала этой свободы для всех мнений, а не для одних только модных, не для новизны только, но и для старины. Люди, едва ли не полнее своих противников изучившие западную науку и настаивавшие лишь на сознательном её восприятии на место рабской переимчивости, оглашались староверами, будто бы желавшими повернуть Россию спиной к Европе и вогнать ее в Азию. Наконец, учение, краеугольным камнем которого в вопросах политических было историческое самодержавие, оподозривалось в государственной неблагонадежности и чуть не в стремлении к бунту. Между тем как западничество, при своем несомненном сочувствии с западноевропейскими государственными учениями, не смотря на то, гораздо более пользовалось покровительством власти и господствовало на университетской кафедре, славянофилы обставлены были неисчислимыми цензурными стеснениями, а иногда находились и под прямым запрещением печатать чтó бы то ни было. Тот самый граф С. Г. Строганов, который, будучи попечителем Московского университета, так много для него сделал, оказывая покровительство даровитым молодым ученым и помогая им достигать профессуры, к славянофилам относился недоверчиво и считал их людьми опасными. Незадолго до своей смерти, когда большинства их уже не было в живых, он, говорят, изменил свой взгляд и понял свою былую ошибку, но во время своего попечительства и непосредственно после него он всюду, где только мог, ставил препятствия славянофилам. Если же такой человек как Строганов, ничего не искавший, просвещенный и везде, по своему крайнему разумению, помогавший просвещению, так относился к славянофилам: то понятно, чего могли они ждать от других представителей власти, несравненно менее способных понять их и оценить. Еще в 1858 году московский генерал-губернатор граф Закревский в своем секретном сообщении шефу жандармов князю Долгорукову о неблагонамеренных людях в Москве писал: «По разным слухам и негласным дознаниям можно предполагать, что так называемые славянофилы составляют у нас тайное политическое общество, вредное по своему составу и началам». В приложенном к этому сообщению списке Ю. Ф. Самарин, например, определяется так: «Славянофил и литератор, желающий беспорядков и на все готовый». Вероятной Закревский, и другие подобные ему блюстители общественной безопасности затруднились бы объяснить, на чтó собственно готовы славянофилы; но последним было от того не легче. Преследование не ограничивалось одною литературою: и самые лица не оставались свободными от него. Русское платье и в особенности борода, которую они носили, сочтены были признаками неповиновения власти. Через полтора века после указов Петра Великого, Москва опять увидала гонение на бороду.
(Окончание следует)
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #6 : 08 Октября 2015, 05:53:30 » |
|
(Окончание 2-й части)Подозрительное отношение к славянофилам, в значительной мере внушаемое Петербургу их московскими недоброжелателями, обратно, как бы отражаясь, оказывало действие на многих москвичей, в душе к ним расположенных: многие сторонились их, считая опасным знаться с опальными людьми. Наконец, и то сословие, которое, по видимому, должно было бы сочувственно отнестись к общественной проповеди Православия, начатой славянофилами, встретило их с холодностью и недоверием. Большинство духовенства, не исключая даже самого митрополита Московского Филарета, казалось, не хотело понять, что славянофильство - не новый раскол, и что нет основания не доверять ему. Когда некоторые лучшие умы Англиканской церкви начали склоняться к Православию, Хомяков горячо принял к сердцу их дело и всеми силами старался, в письмах к Пальмеру, выяснять их недоумения. Чтобы облегчить Пальмеру доступ к высшим представителям Русской иерархии, Алексей Степанович писал Казанскому архиепископу Григорию. Последний в начале отнесся к нему с теплым сочувствием, но потом, вероятно по чьим-нибудь наговорам, сразу изменил это отношение на холодную оффициальность[v]. В числе немногих, имевших правильный взгляд на Хомякова и его убеждения, должно назвать Димитрия архиепископа Тульского, а потом Одесского, который был очень расположен к Алексею Степановичу и часто и подолгу с ним беседовал; также - архиепископа Антония Смоленского, а после Казанского. Среди всеобщей вражды, славянофилам приходилось крепко держаться вместе. И действительно, круг их был не велик, но за то неразрывен. Хомяков, бывший его душою и средоточием, особенно заботился о молодежи. Трогательны его письма в Петербург к А. В. Веневитинову и к графине А. Д. Блудовой, которых он просит не оставить без поддержки ехавших туда юных москвичей. Он вечно за кого-нибудь хлопотал, последовательно снаряжая в Петербург А. Н. Попова, Ю. Ф. Самарина, К. А. Коссовича, К. Д. Кавелина. Последнего, не смотря на разность их мнений, он искренно любил. Хомяков принадлежал к немногим людям, сразу оценившим Гоголя. Но и помимо отношения к нему, как к художнику, Алексей Степанович полюбил его как человека и остался ему верным другом до конца. Гоголь был крестным отцом младшего его сына Николая. Одаренный редкою способностью понимать смысл текущих событий и предугадывать грядущее направление общественной жизни, Хомяков всем своим существом чувствовал необходимость дружной и систематической работы. В 1846 году он писал Самарину: «Надобно и непременно надобно вырабатывать все мысли, все стороны жизни, всю науку. Надобно переделать все наше просвещение, и только общий, постоянный и горячий труд могут это сделать». Вместе с тем, он вполне сознавал, что цель его - не внешняя. «Глупо с нашей стороны давать себе вид политических действователей», писал он А. Н. Попову: «по сущности мысли своей мы не только выше политики, но даже выше социализма». «Практическое приложение начал нами защищаемых покуда еще невозможно», говорит он в другом письме к тому же Попову: «оно производит только минутную тревогу, не принося плода. Воспитание общества только что начинается, а покуда оно не подвинулось сколько-нибудь, никакого пути быть не может. Из наших многие начинают сомневаться в успехе самого этого воспитания: они говорят, и по видимому справедливо, что число западников растет не по дням, а по часам, а наши приобретения ничтожны. Это видимая правда и действительная ложь. Вот мое объяснение. Мысль распространяется, как мода. Начинается с десяти герцогинь, идет к тысяче дам салонных и падает в удел сотне тысяч горничных и гризеток: числительное приобретение и действительный упадок. Тоже и с мыслию: она переходит от десятка душ герцогинь к сотне горничных душ. Без слепоты нельзя не признать, что старая западная мысль сделалась нарядом всего горничного мира; но без пристрастия нельзя отрицать и того, что мы много выиграли места в душевной аристократии». Но ограничивая борьбу областью духа и мысли, Хомяков требовал, чтобы и оружие её было чисто-духовное, и резко восставал против всякого применения силы внешней, в каком бы виде она ни проявлялась. «Несть наша борьба крови и плоти», пишет он K. С. Аксакову. Певец-пастух на подвиг ратный Не брал ни тяжкого меча, Ни шлема, ни брани булатной, Ни лат с Саулова плеча; Но, духом Божьим осененный, Он в поле брал кремень простой - И падал враг иноплеменный, Сверкая и гремя броней. И ты, когда на битву с ложью Восстанет правда дум святых, Не налагай на правду Божью Гнилую тягость лат земных. Доспех Саула ей окова, Ей царский тягостен шелом; Ея оружье - Божье слово, А Божье слово - Божий гром. Мало того: Хомяков никогда не скрывал от себя, что употребление внешних средств в духовной борьбе часто бывает гибельно для проповедуемой идеи. В одном месте своих «Записок» он говорит: «Костер мученика - торжество веры, крестовый поход - её могила» (IV, 204). Вместе с тем он постоянно предостерегал Русский народ от духовной гордости: Не терпит Бог людской гордыни. Не с теми Он, кто говорит: «Мы соль земли, мы столп святыни, Мы Божий меч, мы Божий щит!» Не с теми Он, кто звуки слова Лепечет рабским языком И, мертвенный сосуд живаго, Душою мертв и спит умом, Но с теми Бог, в ком Божья сила, Животворящая струя, Живую душу пробудила Во всех изгибах бытия. Последние стихи ни к кому не применимы в такой полноте, как к написавшему их. «Для Хомякова», говорит А. И. Кошелев, «вера Христова была не доктриною и не каким-либо установлением: для него она была жизнью, всецело обхватывавшею все его существо». - «Хомяков жил в Церкви», сказал про него Ю. Ф. Самарин в своем превосходном предисловии к богословским его сочинениям. Сознание непосредственного общения молитвы со всеми братьями по вере никогда его не покидало. Это чувство всего сильнее овладевает им в часы ночного уединения. Спáла ночь с померкшей вышины, В небе сумрак, над землею тени, И под кровом темной тишины Бродит сонм обманчивых видений. Ты вставай, во мраке спящий брат! Освяти молитвой час полночи: Божьи духи землю сторожат, Звезды светят словно Божьи очи. Ты вставай, во мраке спящий брат! Разорви ночных обманов сети: В городах к заутрене звонят, В Божью церковь идут Божьи дети. Помолися о себе, о всех, Для кого тяжка земная битва, О рабах безсмысленных утех: Верь, для всех нужна твоя молитва. Ты вставай, во мраке спящий брат! Пусть зажжется дух твой пробужденный Так, как звезды на небе горят, Как горит лампада пред иконой. ______________________________ [i ] Это происходило в одной из комнат «Пашкова дома», теперешнего Румянцевского музея. [ii] В домовой церкви графов Паниных, на Никитской, в Москве. [iii] Подробности этой борьбы шаг за шагом очерчены в биографическом очерке, предпосланном Д. Ф. Самариным пятому тому сочинений его брата. [iv] В 1847 году, в статье «О возможности Русской художественной школы», напечатанной в «Московском Сборнике», Хомяков писал: Некоторые журналы называют нас насмешливо славянофилами, именем составленным на иностранный лад, но которое в русском переводе значило бы Славянолюбцев. Я с своей стороны готов принять это название и признаюсь охотно: люблю славян. Я не скажу, что я их люблю потому, что в ранней молодости, за границами России, принятый равнодушно, как всякий путешественник, в землях не-славянских, я был в славянских землях принят, как любимый родственник, посещающий свою семью; или потому, что во время военное, проезжая по местам, куда еще не доходило Русское войско, я был приветствуем болгарами, не только как вестник лучшего будущего, но как друг и брат; или потому, что, живучи в их деревнях, я нашел семейный быт своей родной земли; или потому, что в их числе находится наиболее племен православных, следовательно связанных с нами единством высшего духовного начала; или даже потому, что в их простых нравах, особенно в областях православных, таятся добродетели и деятельность жизни, которые внушили любовь и благоговение просвещенным иностранцам, каковы Бланки и Буэ. Я этого не скажу, хотя тут было бы довольно разумных причин; но скажу одно: я их люблю потому, что нет русского человека, который бы их не любил; нет такого, который не сознавал бы своего братства с славянином и особенно с православным славянином. Об этом, кому угодно, можно учинить справку хоть у русских солдат, бывших в Турецком походе, или хоть в Московском гостином дворе, где француз, немец и итальянец принимаются как иностранцы, а серб, далматинец и болгарин, как свои братья. Поэтому насмешку над нашей любовию к славянам принимаю я также охотно, как и насмешку над тем, что мы русские. Такие насмешки свидетельствуют только об одном: о скудости мысли и тесноте взгляда людей, утративших свою умственную и духовную жизнь и всякое естественное или разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности салонов или в односторонней книжности современного Запада». [v] Мы приводим этот случай, как пример отношения одного из видных Русских иерархов к Хомякову, не входя здесь в подробности дела о несостоявшемся обращении в Православие Пальмера. Причина неудачи последнего лежала прежде всего в нем самом, в крайней трудности для западного человека отрешиться от вековых предубеждений и односторонности в основных религиозных воззрениях Запада. Эта сторона деда ясно выступает в переписке Пальмера с Хомяковым. См. „Русский Архив" 1894 г., кн. III, вып. XI, стр. 433. http://ruskline.ru/analitika/2015/11/06/aleksej_stepanovich_homyakov_ego_zhizn_i_sochineniya/
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #7 : 09 Октября 2015, 21:18:01 » |
|
Валерий ЛясковскийАлексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочиненияКо дню памяти.
Часть 3  Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938). Ко дню памяти (23 сентября / 6 октября) великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста, критика, основоположника «классического славянофильства» Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) мы переиздаем сочинение историка, публициста, педагога Валерия Николаевича Лясковского (1858-1938).
Это первое монографическое сочинение об А.С. Хомякове.
В.Н. Лясковский окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» он познакомился с И.С. Аксаковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского комитета, был и в теплых отношениях с А.Ф. Аксаковой (в архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И.С. Аксакова «Русь».
С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение «Дмитровское-Истомино». По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка), братьев И.В. и П.В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича - Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В.Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. - 1896. - Кн.3.- С. 337-510; Отд. изд.- М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и труды их. - СПб., 1899.- 99 с.).
После революции В.Н. Лясковский жил в Орле, писал воспоминания. Арестован (1937), погиб в заключении.
Публикацию (в сокращении) специально для Русской Народной Линии (по первому отдельному изданию: Лясковский В.Н. А.С. Хомяков. Его жизнь и сочинения.- М.: Универ. тип., 1897.- VIII, 176, II с.) подготовил профессор А. Д. Каплин.
Постраничные сноски автора и составителя заменены концевыми.
Деление текста в Интернет-издании на 3 части - составителя (при этом авторское разделение сохранено без изменения).+ + + VII.Основные черты убеждений и характера Хомякова. - Смерть жены. - Сочинения последних лет жизни. 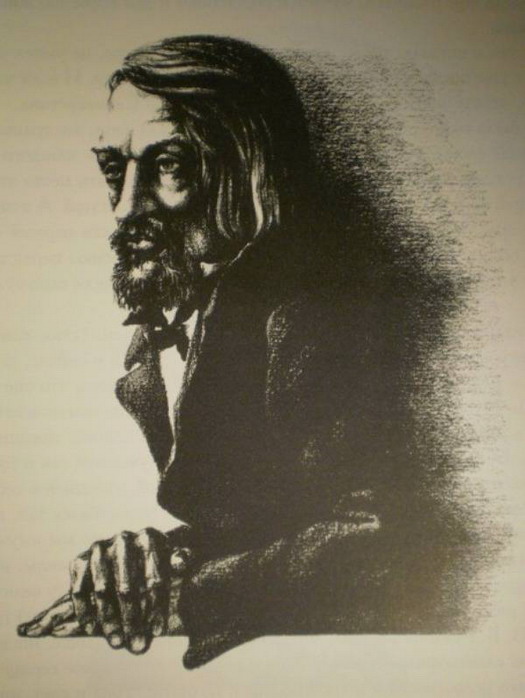 До сих пор мы лишь отрывочно пытались обрисовать отдельные черты нравственного облика Алексея Степановича. Для того чтобы воссоздать его образ во всей его полноте, необходимо помнить основную его черту. Как в убеждениях своих, так и в жизни Хомяков был прежде всего Православным христианином. Убеждения не отделялись у него от жизни, как это бывает у большинства людей. Он жил, как веровал и думал. Веру свою запечатлел он всею своею жизнью, а потому и высказанные им начала были во всем согласны между собою. В жизни отдельного человека, в жизни общества и государства, в исторической жизни народов видел он воплощение одной и той же божественной мысли и выяснял ее со всею чуткостью живой сердечной веры, со всею зоркостью строгого научного анализа. Пламенно любя Россию и славянство, он никогда не забывал, что вне Церкви ни Россия, ни славянство не могут достигнуть полноты своего развития. В отличие от иных, для кого Православие было особенно дорого, как Русская вера, Хомяков в самом Русском народе видел прежде всего ковчег Православия и неустанно призывал Россию на путь веры, смирения и усердного изучения заветов старины. Таково его стихотворение «России» «Гордись!, тебе льстецы сказали, Земля с увенчанным челом, Земля несокрушимой стали, Полмира взявшая мечем! Пределов нет твоим владеньям, И, прихотей твоих раба, Внимает гордым повеленьям Тебе покорная судьба. Красны степей твоих уборы, И горы в небо уперлись, И как моря твои озера»... - Не верь, не слушай, не гордись! Пусть рек твоих глубоки волны, Как волны синих морей, И недра гор алмазов полны, И хлебом пышен тук степей; Пусть пред твоим державным блеском Народы робко клонят взор, И семь морей немолчным плеском Тебе роют хвалебный хор; Пусть далеко грозой кровавой Твои перуны пронеслись: - Всей этой силой, этой славой, Всем этим прахом не гордись! * Грозней тебя был Рим великий, Царь семихолмного хребта, Железных сил и воли дикой Осуществленная мечта; И нестерпим был огнь булата В руках алтайских дикарей, И вся зарылась в груды злата ' Царица западных морей... И что же Рим? И где монголы? И, сжав в груди предсмертный стон, Кует бессильные крамолы, Дрожа над бездной, Альбион... * Безплоден всякий дух гордыни, Неверно злато, сталь хрупка; Но крепок ясный мир святыни, Сильна молящихся рука. И вот за то, что ты смиренна, Что в чувстве детской простоты, В молчаньи сердца сокровенна, Глагол Творца прияла ты, - * Тебе Он дал Свое призванье, Тебе Он светлый дал удел: Хранить для мира достоянье . Высоких жертв и чистых дел; Хранить племен святое братство, Любви живительный сосуд, И веры пламенной богатство, И правду, и безкровный суд. Твое все то, чем дух святится, В чем сердцу слышен глас небес, В чем жизнь грядущих дней таится - Начало славы и чудес. * О, вспомни свой удел высокий! Былое в сердце воскреси И в нем сокрытого глубоко Ты духа жизни допроси. Внимай ему, и, все народы, Согрев любовию своей, Открой им таинство свободы, Сиянье веры им пролей. И станешь в славе ты чудесной Превыше всех земных сынов, Как этот синий свод небесный, Прозрачный Вышняго покров! Сознавая вполне важность своего призвания, он был чужд и тени самообольщения и, с полным убеждением в недостаточности сил отдельного человека для осуществления начатого им великого дела, говорил: Как часто во мне пробуждалась Душа от ленивого сна, Просилася людям и братьям Сказаться словами она! Как часто, о Боже, рвалася Вещать Твою волю земле, Да свет осияет разумный Безумцев, бродящих во мгле. Как часто, безсильем томимый, С глубокой и тяжкой тоской, Молил Тебя дать им пророка С горячей и сильной душой; Молил Тебя в час полуночи Пророку дать силу речей, Чтоб мир оглашал он далеко Глаголами правды Твоей; Молил Тебя с плачем и стоном, Во прахе простерт пред Тобой, Дать миру и уши, и сердце Для слушанья речи святой. Личная вера Хомякова была чужда всякого ханжества. Далекий от того, чтобы считать себя праведником, он в самых задушевных разговорах с друзьями выражал им, что мучительно чувствует свое несовершенство. Строго исполняя все посты и установления церковные, дорожа этою теснейшею связью с народом, он избегал всего, чтó делается на показ. Вообще простота была отличительною чертою его характера. Другою чертою его была веселость - здоровая, непритворная, ясная [i ]. Единство мысли и действия, горячая искренность, отвращение ото всего предвзятого, затверженного, пошлого, полное здоровье духа и тела, любовь к жизни и её радостям: таков был характер Хомякова, простой, ясный, как кристалл и потому именно казавшийся и кажущийся мало понятным для тех, кто обо всем судит по готовой мерке. Мы так привыкли видеть и на людях, и на мыслях известный мундир, что без такого мундира и вообразить себе человека не можем. Общественный деятель, писатель, ученый, подвижник, или деятель практический, хозяин, чиновник; наконец человек, живущий в свое удовольствие, охотник, игрок: все это мы понимаем. Но ученый без ученого звания; писатель, которого сочинения редко попадают в печать; общественный деятель без должности, и в тоже время и хозяин, и биллиардный игрок, и охотник, и просто веселый, общительный человек, в деревне помещик, в городе - горожанин: как это понять, как совместить? Не постигая такого в высшей степени гармоничного соединения душевных и телесных сил, одни хотели видеть в Хомякове ученого, и удивлялись его страсти к охоте; другие - барина-дилеттанта, и отказывались уразуметь всю глубину его умственной работы. А между тем он так понятен: стóит только уяснить себе полное отсутствие в нем того, что называется академизмом, причисления себя к какому бы то ни было умственному и общественному цеху. Он не был ни присяжным ученым, ни хозяином по ремеслу, ни завзятым охотником: он был просто Алексей Степанович Хомяков, который и к науке, и к хозяйству, и к любимой им охоте прилагал данные ему Богом силы; а мера достигаемого им в каждой из этих областей деятельности и жизни зависела уже от меры этих вложенных в него сил. Но он не дробился, а был везде один, ровный и цельный. От того так и понятна была его речь людям простым и неученым; от того и дышет она теперь такой неувядаемой свежестью: ведь форма проходит, жизнь остается. Широте его интересов соответствовала и широта познаний и почти невероятная память. Не говоря уже о науках, стоявших в близкой связи с его богословскими и историческими занятиями, он интересовался всем на свете: искусство, технология, медицина, во всех этих областях он самостоятельно работал. То он находит средство против холеры и вылечивает им тысячи[ii]; то посылает в военное министерство придуманное им ружье, и на Лондонскую выставку - своего же изобретения паровую машину, получившую там патент [iii]. Не успев развить своего личного дарования в живописи, он превосходно знал её теорию и технику и был одним из основателей Московского Училища Живописи, ваяния и зодчества. Под его же непосредственным надзором были выстроены церкви в Боучарове и Круглом. Словом, в этом человеке заключалось такое разнообразие сил, что С. Т. Аксаков имел право сказать о нем: «Из Хомякова можно выкроить десять человек, и каждый будет лучше его». Теперь говоря о нем, трудно представить себе, как мог он успеть столько сделать и притом еще прослыть ленивым. О лени Хомякова так много говорили его близкие и он сам, что на этой стороне его характера стóит остановиться. Необычайно разнообразная деятельность его и поразительная законченность всех его произведений потому лишь и были возможны, что в голове его неустанно, можно сказать днем и ночью, шла непрерывная умственная работа. Люди видели лишь результаты, так сказать, концы этой работы, и потому, когда Хомяков повидимому ничего не делал, упрекали его в лени, не давая себе труда сообразить, что ведь у обыкновенного человека (положим писателя) всякое произведение вырабатывается постепенно, а от Хомякова не осталось ни одной черновой рукописи: и стихи, и статьи свои он всегда писал сразу, набело. Значит ли это, что он их не обдумывал и не подготовлял? Напротив, это значит только, что он этих подготовительных работ не записывал. Сказанное есть не более как догадка; но догадка, кажется, довольно правдоподобная. До самых последних лет жизни Алексей Степанович, кроме некоторой слабости желудка, пользовался хорошим здоровьем и если хворал, то не по долгу. Только в 1849 году у него болели глаза, а в 1855 он чуть не умер от тифа. Жил он по городски, то есть ложился и вставал очень поздно; но по праздникам всегда ходил к обедне и часто даже к заутрени. Привычкою к ночному бодрствованию объясняется частое повторение в его стихах, так сказать, ночных мотивов. Его последнее, предсмертное сочинение (второе письмо о философии к Самарину) начинается с описания ночи: «Тому дня четыре, поздним вечером, то есть, как вы знаете, за полночь, подошел я к окошку. Ночь была необыкновенно ясна; далекая и глубокая даль отрезывалась отчетливо против ночного неба; почти полный месяц, уж на ущербе, плыл тихо, не слишком высоко над землею; недалеко от него алмазным огнем горела планета, кажется Юпитер; в стороне сверкал и мигал красноватый Сириус, и бесчисленное множество звезд покрывало все небо серебряною насыпью. Полюбоваться бы, да и заснуть. Нет! Тут мне пришла мысль, несколько странная, но математически-верная, о которой я и намерен с вами поговорить. Мне пришла мысль, что вся эта красота, которою я любуюсь, есть уже прошедшее, а не настоящее». От этой мысли Хомяков переходит к рассуждению о пространстве и времени. Вероятно, эти немногие страницы разрослись бы в серьезный философский труд, если бы смерть не прервала мыслителя на самом его начале. Зимою, как мы уже не раз говорили, Хомяков всегда жил в Москве, которую любил во всех её мелочах, никогда не забывая её общего всенародного значения. В одной из своих речей в Обществе Любителей Российской Словесности он говорит: «Чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение Русское и в отношение к нему Москвы, тем более убедимся, что именно в ней постоянно совершается сериозный размен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу Русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столковаться с русскими, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нынче вырабатывается завтрашняя мысль Русского общества. В этом убедится всякий, кто только проследит ход нашего просвещения. Все убеждения, более или менее охватывавшие жизнь нашу, или проникавшие ее, возникали в Москве. Этим объясняются многие явления, которые иначе объясниться не могут, например то, что иногда человек, не оставивший после себя никакого великого труда, никакого памятника своей деятельности, пользовался славою во всем пространстве нашего отечества и действовал прямо или косвенно на строй умов и на убеждения людей, никогда с ним не встречавшихся в жизни; или то, что люди, которые сами не трудились на путях словесности, но по своему положению могли здесь содействовать или вредить её успехам, получали всеобщую известность, тогда как другие, действовавшие на том же поприще, но в иных областях, оставались неизвестными никому, кроме тех, с которыми они находились в прямых сношениях; или то, наконец, что иногда человек, ни по занятиям, ни по положению не участвовавший в движении словесности, получал некоторую славу в краях даже отдаленных от Москвы только потому, что около него здесь собиралась живая и сериозная беседа. Вам все эти примеры известны. Мысль возникает или вырабатывается в Москве и переносится уже в другие Русские области; там, если эта мысль одностороння, она уже, так сказать, донашивается и изнашивается в тряпье и лохмотья, когда она уже давно брошена и забыта у нас». (Продолжение 3-й части следует)
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #8 : 09 Октября 2015, 21:26:57 » |
|
(Продолжение 3-й части)
Вспомним его описание Кремлевской заутрени на Пасху.
В безмолвии, под ризою ночною
Москва ждала, и час святой настал:
И мощный звон раздался над землею,
И воздух весь, гудя затрепетал.
Певучие, серебряные громы
Сказали весть святого торжества,
И, внемля глас, её душе знакомый,
Подвиглася великая Москва.
Все тот же он: ни нашего волненья,
Ни мелочно-торжественных забот
Не знает он и, вестник искупленья,
Он с высоты нам песнь одну поет -
Свободы песнь, песнь конченного плена.
Мы слушаем... Но как внимаем мы?
Сгибаются ль упрямые колена,
Смиряются ль кичливые умы?
Откроем ли радушные объятья
Для страждущих, для меньшей братьи всей?
Хоть вспомним ли, что это слово - братья -
Всех слов земных дороже и святей.
В Москве создалось личное счастие Хомякова; в Москве же суждено было ему и утратить его: в январе 1852 года Катерина Михайловна занемогла тифом, осложненным беременностью, и 26 января в 11 ч. 30 м. вечера скончалась.
В несколько дней, проведенных у её постели и гроба, Хомяков постарел и изменился до неузнаваемости, но мужественно переносил горе. В письме к А. Н. Попову он говорит: «Я много в душе переменился. Детство и молодость ушли разом. Жизнь для меня в труде, а прочее как будто во сне».
Друзья Хомякова (А. П. Плещеев, Кошелев, Хитрово, Свербеев и другие) ни на минуту его не покидали. Умирающий Жуковский дрожащею рукою написал Алексею Степановичу, что молит Бога благословить его. Скоро приехал из Петербурга Ю. Ф. Самарин. В первую же минуту свидания Хомяков сказал ему, что он принимает смерть жены за наказание и испытание, ниспосланное ему свыше. Эту же мысль мы находим и в его письмах.
Со дня кончины Катерины Михайловны до своего конца Хомяков постоянно о ней думал. Любимым занятием его стало писать на память её портреты, которые он решил нарисовать для всех своих детей. Боясь поддерживать в детях грустное настроение, он при них крепился; но сам, где бы ни был, вспоминал о былом. В особенности в деревне каждый шаг наводил его на эти мысли; тоже было при всяком писании, к которому она всегда так его побуждала. Долго после её смерти он не мог писать стихов и, когда приходила мысль о них, он удалял ее. Раз тоже случилось во сне; и вот явилась Катерина Михайловна и сказала ему: «Не унывай». После этого он мог опять писать. Он сам рассказывает это в письме к любимой сестре своей жены, покойной Прасковье Михайловне Бестужевой.
Возвращение свое к делу он ознаменовал стихотворением «Лазарь»:
О Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал,
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и возстал.
Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь: встань! душе моей,
И мертвая из гроба встанет
И выйдет в свет Твоих лучей,
И оживет, и величавый
Ея хвалы раздастся глас -
Тебе, сиянью Отчей славы,
Тебе, умершему за нас!
Вскоре по кончине Катерины Михайловны Хомякову снова пришлось хоронить близкого человека. Вот чтó пишет он Попову:
«Только что удар пал мне на голову - новый удар, тяжелый для всех, последовал за ним. Николинькин крестный отец, Гоголь наш, умер. Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душою, особенно же H. М. Языков. На панихиде он сказал: все для меня кончено. С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал себя морить голодом, попрекая себе в обжорстве. Иноземцев не понял его болезни и тем довел его до совершенного изнеможения. В субботу на маслянице Гоголь был еще у меня и ласкал своего крестника. В субботу или воскресенье на первой неделе он был уже без надежды, а в четверг на нынешней неделе кончил. Ночью с понедельника на вторник первой недели он сжег в минуту безумия все, что написал. Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка. Очевидно судьба. Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто поймет, или кто захочет понять? А сверх того и печатать будет нельзя. После смерти его вышла распря. Друзья его хотели отпевать его в приходе, в церкви, которую он очень любил и всегда посещал, Симеона Столпника. Университет же спохватился, что когда-то дал ему диплом почетного члена, и потребовал к себе. Люди, которые во всю жизнь Гоголя знать не хотели, решили участь его тела против воли его друзей и духовных братий, и приход, общее всех достояние, должен был уступить домовой церкви, почти салону, куда не входит ни нищий, ни простолюдин. Многознаменательное дело. Эти сожженные произведения, эта борьба между пустым обществом, думающим только об эффектах, и серьезным направлением, которому Гоголь посвящал себя, борьба решенная в пользу Грановских и Павловых и прочих городским начальством: все это какой-то живой символ. Мягкая душа художника не умела быть довольно строгою, строгость свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь! Для его направления нужны были нервы железные. Ляжет он все-таки рядом с Валуевым, Языковым и Катенькой и со временем со мною в Даниловом монастыре, под Славянскою колонною Венелина. Так и надобно было».
Мы сказали, что горе не обезсилило Хомякова, а лишь, отняв у него, по его собственным словам, всю прелесть жизни, направило все силы его души на довершение подвига жизни. Несколько позже сам он сказал:
Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг - в терпеньи,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской,
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные
Жалом в душу впились, -
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья,
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.
Вдохновение веры, наука разума, опыт жизни и огонь страдания соединились теперь вместе и подняли дух его на ту высоту, на которой уже ничто не заслоняло широкого кругозора мысли и с которой она, завершив свой постепенный рост, могла выразиться в своей полноте. В последние восемь лет своей жизни Хомяков написал больше, чем во все предшествовавшее время. Ему уже мало приходилось заниматься своим систематическим трудом: чувствуя, что жить остается немного, он спешил высказаться по всем волновавшим его вопросам; спешил, как сам где-то выразился, вырабатывать все мысли, все стороны жизни, всю науку, то есть выяснить весь круг намеченных им и его сотрудниками начал в вере и знании. Все, чтó так долго создавалось в его уме, теперь быстро ложилось на бумагу. Кроме множества разнообразных статей, кроме чудных стихов, которыми он отзывался на волнения текущей общественной жизни, он в это время написал все свои богословские сочинения, за исключением своего катихизиса «Церковь одна», составленного в сороковых годах. Первая богословская его статья «Несколько слов Православного христианина о западных исповеданиях» была написана на французском языке по поводу критики Лоранси (Laurentie) на статью Ф. И. Тютчева «Папство и Римский вопрос», напечатанную в 1850 году в Revue des deux Mondes. Свою статью Хомяков издал за границей так же, как и две последующие.
Эти три статьи, вместе с несколькими меньшими, составляют цельный полемический труд - целый, решаемся сказать, подвиг исповедания. В первый еще раз новый Запад (Запад XIX века) услыхал такой голос русского православного богослова, прямо к нему обращенный; голос, ничего не замалчивающий и не смягчающий, но спокойный, чуждый страсти и полемического увлечения, проникнутый горячею, истинно-христианскою любовью. Заканчивая третью свою статью, Хомяков обращается к своим западным читателям с таким признанием: «Труд, который я предпринял и на который смотрю, как на исполнение долга перед Богом и перед вами, читатели и братья, был для меня довольно тягостен. Смущало не употребление иностранного языка и не трудность показать превосходство начал Церкви перед началами раскола; я не думал удивлять красноречием и хорошо знал, что достаточно было простого изложения церковной доктрины, чтоб убедить добросовестных читателей в её строгой последовательности и величавой гармонии. Но мне была тягостна необходимость говорить о Спасителе и о Его неизглаголанном совершенстве, о вере и её тайнах, как о темах научного спора. Бог мне свидетель, что не так бы желал я говорить с вами об этих предметах; но это было неизбежно. - Бог, во время Им определенное, приведет снова европейские племена в лоно Церкви. К совершению этого святого предначертания призваны будут люди лучше меня, люди более исполненные любви; но, может быть, и логический труд, мною оконченный, окажется не совсем бесполезным, как труд приготовительный. Местами он вам покажется сухим и суровым; не сетуйте за это на меня, читатели и братья. Труженику, бросающему плодоносное семя, предшествует железное рало, раздирающее почву, подсекающее сорные травы и проводящее борозду. Но, может быть, и теперь найдутся души избранные, в которых зародыш жизни, положенный Св. Писанием, чтением отцев и в особенности благодатью Божиею, дремлет под слоем наследственных заблуждений и, подобно зерну, которому кора безплодной земли мешает прозябнуть, ждет лишь прохода плуга, чтобы произвести плоды угодные Богу. Читатели и братья! Если таковые между вами найдутся, то я прошу их, во имя той любви, которую каждый обязан питать к истине, к своим братьям и к своему Спасителю, не останавливаться на тех особенностях моего труда, в которых могли отразиться мои личные недостатки, но взвесить сказанное мною серьезно и внимательно»[iv].
Мы только что сказали, что появление богословских сочинений Хомякова было ближайшим образом вызвано внешним обстоятельством: прочтением статьи Лоранси. Подобным же образом облегчение цензурных стеснений в последние годы жизни Алексея Степановича побудило его к написанию многих статей, которые ранее не могли бы быть напечатаны. Но все это были поводы; внутренняя же причина видимой плодотворности последних лет жизни Хомякова сравнительно с прежними, как мы указали выше, лежала в нем самом. И вот он выходит из тесного круга семьи, где уже не было его любимой собеседницы, и из несколько более широкого круга друзей. С этого собственно времени начинается для Хомякова более живой и широкий обмен мыслей. Он сам сознавал, что смерть жены наложила на него обязанность более неустанной работы, и в письме к П. М. Бестужевой говорит: «Я знаю, я уверен, что мне смерть её была нужна; что она, хотя и наказание, в тоже время послана мне для исправления и для того, чтобы жизнь, лишенная всего, чтó ее делало отрадною, была употреблена только на занятия и мысли серьезныя».
Между тем во внешнем мире творились знаменательные события и готовились еще большие. Россия переживала тяжелое время. Революционное движение, охватившее в 1848 году Западную Европу, напугало наших правительственных деятелей и вызвало ряд мероприятий, стеснивших до нельзя и без того гонимую общественную мысль и слово; а так как славянофилы давно были в подозрении у начальства, то они первые и почувствовали тяжесть этих стеснений. В этом году, говоря в письме к Попову о Москве и её государственном значении, Хомяков пишет: «В ней сосредоточивается и выражается сила историческая, сила предания, сила устойчивости общественной; но этой силе нужно выражение, этому выражению нужна свобода, хотя бы в свободе и проглядывало какое-нибудь повидимому оппозиционное начало. Эта мнимая оппозиция есть истинное и единственное консерваторство. Пусть этому началу положат совершенную преграду, пусть отнимут всякую возможность выражения у этой силы предания и общественной устойчивости; пусть заморят ее совершенным молчанием (ибо молчание есть смерть силы духовной), и тогда через несколько лет пусть поищут с фонарем живой силы охранной - и не найдут». Через шесть лет он пишет к тому же Попову: «Двадцать лет душили мысль. В важную минуту наткнулись на безмыслие, и мне чувствуется страшная беспомощность, скрываемая под плохою личиною спокойствия и надежды. Чтó-то Бог даст? А время великое. Может быть Тильзит, но Тильзит предшествовал двенадцатому году. И так будет опять, ибо мы мыслию выше. А впрочем, может быть, Бог избавит от Тильзита. Одно страшно: пять лет, увы! еще не кончившагося самохваления, противного Богу и чуждого народному духу».
Время, действительно, было великое и страшное: шла осада Севастополя...
Через год сошел в могилу Государь Николай Павлович. Хомяков пишет к Попову: «Смерть доказала нравственную правоту человека, который столько казался виноватым. Впрочем, я его всегда считал правым, как вы сами знаете, и винил не лицо, а систему и нас всех». Через пять лет, в послании «к сербам» Хомяков пишет: «Теперь узнали мы тщету нашего самообольщения; теперь освобождаем мы своих порабощенных братий, стараемся ввести правду в суд и уменьшить разврат в народных нравах. Дай Бог, чтобы дело нашего покаяния и исправления не останавливалось, чтобы доброе начало принесло добрый плод в нашем духовном очищении и чтобы мы познали навсегда, что любовь, правда и смирение одни только могут доставить народу, так же как и человеку, милость от Бога и благоволение от людей». В одном из писем к графине Блудовой Хомяков говорит: «Вообще, если можно характеризовать то, что я считаю нашею общею болезнию, одним словом, я бы ее назвал усыплением совести во всех. Иногда она и просыпается, но почти всегда с просонок не туда пойдет, куда следует».
Слабо было в Русском обществе сознание задач России... И вот в 1854 году Хомяков обратился к своей родине с таким словом вразумления:
Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.
Вставай, страна моя родная!
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.
Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов Он судит строго,
А на тебе, увы! как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя слезою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.
С душой коленопреклоненной,
С главой, сокрытою в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.
И встань тогда, верна призванью
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечем - то Божий меч!
Нечего и говорить, что стихотворение это не могло быть напечатано. Хомякова чуть не выслали за него из Москвы.
VIII.
Новое царствование. - Русская Беседа. - Крестьянский вопрос. - Дело Хомякова в его собственном сознании. - Смерть друзей и матери. - Кончина Хомякова. - Отзывы о нем.
С наступлением нового царствования и cлавянофилы могли, наконец, вздохнуть свободнее. Кошелев получил разрешение на издание журнала «Русская Беседа». Предисловие к ней было написано Хомяковым. В нем он ясно и твердо высказал стремления свои и своих сотрудников и свой взгляд на обязанности и задачи просвещенного русского человека. «Русский дух создал самую Русскую землю в бесконечном её объеме; ибо это дело не плоти, а духа Русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; Русский дух понял святость семьи и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы были его дела, плоды милости Божией, озарившей его полным светом Православия. Теперь, когда мысль окрепла в знании, когда самый ход истории, раскрывающий тайные начала общественных явлений, обличил во многом ложь Западного мира и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, еще не вполне) силу и красоту наших исконных начал, нам предлежит снова пересмотреть все те положения, все те выводы, сделанные Западною наукою, которым мы верили так безусловно; нам предлежит подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения безстрастной критике наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность. В тоже время на нас лежит обязанность разумно усвоивать себе всякой новый плод мысли Западной, еще столько богатой и достойной изучения, дабы не оказаться отсталыми в то время, когда богатство наших данных возлагает на нас обязанность стремиться к первому месту в рядах просвещающагося человечества».
До конца существования «Русской Беседы», совпавшего и с его концом, Хомяков был самым деятельным её сотрудником.
Наконец, наступило время разрешения и того вопроса, который уже давно был задушевною его думою, вопроса крестьянского. Тяжелое иго крепостного права, развращавшее помещиков еще более, чем крестьян, и необходимость выхода из этих одряхлевших исторических оков никогда не переставали заботить Хомякова. Еще в 1842 году, по поводу указа об обязанных крестьянах, он напечатал в «Москвитянине» две статьи «О сельских условиях» и затем всю жизнь стремился и успел во всех своих деревнях (кроме новокупленной рязанской) заключить с крестьянами ряду или договор, основанный на совершенно-свободном соглашении. Эти ряды были любимым его детищем. Вместе с тем он не переставал доказывать необходимость общего освобождения крестьян с землею по всей России. В 1848 году, по поводу записки Самарина об устройстве Лифляндских крестьян, Хомяков в письме к нему, между прочим, говорил: «Для нас, русских, теперь один вопрос всех важнее, всех настойчивее. Вы его поняли и поняли верно. Давно уже ношусь я с ним и старался его истинный смысл выразить, елико возможно, ясно. Спасибо вам за то, что вы попали на ту юридическую форму, которая выражает этот смысл с наибольшею ясностью и отчетливостью, именно на существование у нас двух прав, одинаково-крепких и священных: права наследственного на собственность и такого же права наследственного на пользование. В более абсолютном смысле, в частных случаях, право собственности истинной и безусловной не существует: оно пребывает в самом государстве (в великой общине), какая бы ни была его форма. Можно доказать, что это общая мысль всех государств, даже Европейских. Всякая частная собственность есть только более или менее пользование, только в разных степенях. По истории старой Руси можно, кажется, доказать, что таково было значение даже княжеской собственности; по крайней мере, поземельная наша собственность (пользование в отношении к государству) есть собственность в отношении к другим частным людям и след. к крестьянам. Их право в отношении к нам есть право пользования наследственного; действительно же оно разнится от нашего только степенью, а не характером, и подчиненностью другому началу - общине. Таково отношение юридическое, вышедшее из обычая или создавшее обычай; и кто хочет этому отношению нанести удар, тот хочет возмутить все убеждения, всю сущность народа, а теперь только об этом и хлопочут. Не позволительно нам молчать и, признаюсь, я ожидаю от вас изложения этого начала».
(Окончание 3-й части следует)
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 108679
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #9 : 09 Октября 2015, 21:27:58 » |
|
(Окончание)В следующем году, в письме к Кошелеву, Хомяков подробно разбирает особенности сельской общины, доказывая её совместимость с улучшением земледелия в смысле хозяйственном, более же всего, важность общинного устройства в отношении нравственном и бытовом. «Община, говорит он, есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей Русской истории. Отними его, не останется ничего; из его же развития может развиться целый гражданский мир». - «Мне известны до сих пор, пишет он далее, в нерусской Европе только две формы сельского быта: одна английская, сосредоточение собственности в немногих руках, другая французская после революции, бесконечное дробление собственности. Все прочие формы относятся к этим двум как степени переходные, еще не дошедшие до своего крайнего развития. Первая очень выгодна для сельского хозяйства и усиливает до невероятности массу богатства, напрягая умственные способности селянина посредством конкурренции в найме и бросая сильные капиталы на опытное усовершествование земледельческой практики. Вот её достоинство; но за то самая конкурренция, безземелие большинства и антагонизм капитала и труда доводят в ней, по необходимости, язву пролетарства до бесчеловечной и непременно разрушительной крайности. В ней страшные страдания и революция впереди. - Вторая форма, французская, дробление собственности, невыгодна для хозяйства, замедляет его развитие и во многих случаях (именно там, где нужны значительные силы для побеждения какой-нибудь преграды) делает его совершенно невозможным; но это неудобство считаю я не слишком значительным в сравнении с выгодами дробной собственности. Нет сомнения, что введение этой системы во Франции удаляет, а может быть даже отстраняет навсегда, нашествие пролетарства; ибо оно мало известно в сельском быту Франции и является только в виде исключения в некоторых слишком неблагодарных местностях. Нищета есть принадлежность городов французских, а не сел. Но за то эта форма имеет другой существенный недостаток, который в государственном отношении не лучше пролетарства: это полная разъединенность. Таков результат во Франции современной по свидетельству самих французов; таков будет он непременно везде. Разъединенность же есть полное оскудение нравственных начал; а заметь, что оскудение нравственных начал есть в тоже время и оскудение сил умственных. От этого в нищенствующих селах Англии восстают беспрестанно сильные умы, которых деятельность отзывается на всю Англию; а в полях (селами их назвать нельзя) Франции человек так слаб и глуп, что от него не добьется общество ни одной мысли. Он просто немой: от него ни слуха, ни послушания, по русской поговорке. Конечно я не восстаю против собственности, ни против её эгоизма; но говорю, что если кроме эгоизма собственности ничто недоступно человеку с детства, он будет окончательно не то, чтобы дурной человек, а безнравственно-тупой человек, он одуреет. Слышать только об деле общем и потом в нем участвовать, слышать с детства суд и расправу, видеть, как эгоизм человека становится беспрестанно лицем к лицу с нравственною мыслию об общем, о совести, о законе обычном, вере, и подчиняться этим высшим началам, это - истинно-нравственное воспитание, это просвещение в широком смысле, это развитие не только нравственности, но и ума. И так община столько же выше английской формы, которой бедствия она устраняет, сколько и французской, которая, избегая бобыльства физического, вводит бобыльство духовное и дает городам такой огромный и гибельный перевес над селом». Наконец, касаясь положения помещика, Хомяков говорит: «Об нас и об нашем отношении к общине покуда я не говорю. Со временем мы сростемся с нею. Но как? Этого решать нельзя. Смешно было бы взять на себя все предвидеть. Право приобретать собственность, данное крестьянину, не нарушает общины. Личная деятельность и предприимчивость должны иметь свои права и свой круг действия; довольно того, что он будет всегда находить точку опоры в сельском мире и что в нем же или через него они будут мириться с общественностью, не выростая никогда до эгоистической разъединенности. Тоже вероятно будет и с нами. Но это еще впереди и как Бог даст! Допустим начало, а оно само себе создаст простор». «Первый высочайший рескрипт обрадовал Хомякова, как ранний благовест, возвещающий наступление дня после долгой, томительной ночи», говорит Ю. Ф. Самарин в статье «Хомяков и крестьянский вопрос». Когда начались подготовительные работы Редакционных Коммиссий, он не был в них призван... Он написал подробное письмо Я. И. Ростовцеву, в котором доказывал вред временно-обязанных отношений и предлагал целый проект единовременного выкупа. На это письмо также не было обращено должного внимания. Алексей Степанович высказывал сильное беспокойство за вполне успешное устроение крестьянского дела. Последствия показали, насколько он был прав. Хомякову было пятьдесят четыре года. Он еще был полон сил умственных и телесных; но смутное предчувствие говорило ему, что час его близок. И вот он оглядывается на то, чтó было сделано и что предстояло еще совершить. Значение собственной деятельности и деятельности его сотрудников всегда было ему ясно. Еще в 1845 году он писал Самарину: «Мы должны знать, что никто из нас не доживет до жатвы и что наш духовный и монашеский труд пашни, посева и полóтья есть дело не только Русское, но и всемирное». Ему же писал он теперь: «Мы передовые; а вот правила, которого в историях нет, но которое в истории несомненно: передовые люди не могут быть двигателями своей эпохи; они движут следующую, потому что современные им люди еще не готовы. Разве к старости иной счастливец доживет до начала проявления своей собственной, долго носимой мысли». Хомяков не был таким счастливцем; но он не падал духом и бодро шел вперед, говоря о себе: По жестким глыбам сорной нивы, С утра до истощенья сил, Довольно, пахарь терпеливый, Я плуг тяжелый свой водил. Довольно, дикою враждою И злым безумьем окружен, Боролся крепкой я борьбою: Я утомлен, я утомлен. Пора на отдых. О дубравы, О тишина полей и вод И над оврагами кудрявый, Ветвей склоняющихся свод! Хоть раз один в тени отрадной, Склонившись к звонкому ручью, Хочу всей грудью, грудью жадной Вздохнуть вечернюю струю. Стереть бы пот дневного зноя, Стряхнуть бы груз дневных забот!... Безумец! Нет тебе покоя, Нет отдыха, вперед, вперед! Взгляни на ниву: пашни много, А дня немного впереди; Вставай же, раб ленивый Бога! Господь велит - иди, иди! Ты куплен дорогой ценою: Крестом и кровью куплен ты; Сгибайся же, пахарь, над браздою, Борись, борец, до поздней тьмы! Пред словом грозного призванья Склоняюсь трепетным челом; А Ты безумного роптанья Не помяни в суде Твоем! Иду свершать в труде и поте Удел, назначенный Тобой, И не сомкну очей в дремоте И не ослабну пред борьбой. Не брошу плуга, раб ленивый, Не отойду я от него, Покуда не прорежу нивы, Господь, для сева Твоего! Многих близких предстояло ему еще проводить в могилу прежде, чем сойти в нее самому. В 1856 году умер И. В. Киреевский. Хомяков вполне оценил тяжесть этой утраты для Русского просвещения. Смерть застала Киреевского на самом начале предпринятого им обширного философского труда. «Какое-то особенно строгое испытание нашему направлению, пишет Хомяков Кошелеву: как будто опыт нашего терпения и постоянства. Редеет круг наш, жизнь обращается для каждого как будто в воспоминание. Подвиг становится все строже и строже. Видно, так надобно». Потеря Киреевского была невознаградима. Между тем как остальные ближайшие сотрудники Хомякова, K. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие, все более или менее воспитались под его воздействием, Иван Васильевич Киреевский дошел до своих убеждений путем совершенно самостоятельным. В особенности в вопросах философских он был не учеником, а мастером, почти равносильным самому Хомякову, если вообще допустима сравнительная оценка дарований и заслуг в такой области. Это всегда понимал Алексей Степанович и глубоко почувствовал потерю такого соратника. Отношение его к трудам Киреевского ясно видно из двух посвященных им статей. За И. В. Киреевским последовал его неразлучный спутник-брат. Вокруг Алексея Степановича не оставалось почти никого из ближайших его друзей: одних не стало, другие ушли на практическое дело. Но общение с людьми, проповедь, спор были для него необходимы. В последние годы жизни мы видим его то в состязаниях с раскольниками в Кремле, то в частых спорах с университетскою молодежью, особенно с представителями крайних мнений среди неё, каковы были в то время Рыбников, Козлов и некоторые другие. В июле 1857 года скончалась мать Хомякова. «В доме и жизни все как-то становится мертвее и темнее, пишет он графу А. П. Толстому; впрочем, это хорошо, чтобы самому своей очереди легче было ждать». В 1858 году умер художник А. А. Иванов, на которого Хомяков всегда возлагал надежду и о картине которого, уже после его смерти, написал статью. Вскоре после Иванова умер молодой H. В. Шеншин, близкий и дорогой Алексею Степановичу. Очередь была за ним. Не в Москве, не в Боучарове у своего семейного очага, в кругу детей, суждено было ему закрыть глаза. В сентябре 1860 года поехал он со старшим сыном в свое Рязанское имение, село Ивановское, в округе которого была холера. За несколько дней Дмитрий Алексеевич Хомяков уехал оттуда, оставив отца совершенно здоровым... Продолжаем словами Леонида Матвеевича Муромцева, единственного, кроме прислуги, свидетеля его последних минут: 23-го сентября в 8 часов утра приехал ко мне посланный с известием, что Алексей Степанович заболел холерой. Я наскоро захватил с собою лекарства, которыми довольно успешно лечил в околотке, и с тяжелым предчувствием на сердце поскакал в Ивановское. В 9 час. я взошел в комнату к больному. Он лежал лицом к свету, а потому страшные следы болезни сразу бросились мне в глаза. «Что с вами, Алексей Степанович?» спросил я у него, стараясь придать моим словам и твердость, и спокойствие. - «Да ничего особенного: приходится умирать. Очень плохо. Странная вещь! Сколько я народу вылечил, а себя вылечить не могу». И все это было сказано слабым, едва внятным голосом, свойственным всем холерным. Но в этом голосе не было и тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. Лишним считаю пересчитывать, сколько десятков раз я его умолял принять моего лекарства, послать за доктором и, следовательно, сколько раз он отвечал отрицательно и при этом сам вынимал из походной гомеопатической аптеки то veratrum, то mercurium. Дня два перед роковым 23-м числом Алексей Степанович уже страдал расстройством желудка; не обращая внимания на этот недуг, он ездил 21-го в Лебедянь, 22-го был в поле, а в ночь с 22-го на 23-е до двух часов писал письма. В 3-м часу он лег спать и приказал человеку приготовить к утру горчичник, собираясь ехать со мною в заседание Лебедянского Общества. В шестом часу он раз будил людей: болезнь разразилась в полной силе. В 9-ть часов, когда я приехал в Ивановское, главные припадки несколько уменьшились, оставивши по себе признаки отчаянного положения: изнуренное лицо, холодный пот, сильно изменившийся голос, неимоверную слабость. Около часу пополудни, видя, что силы больного утрачиваются, я предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря: «Очень, очень рад». Во все время совершения таинства, он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Спустя некоторое время он принял несколько капель моего лекарства, вместо целой рюмки, которую я ему предлагал. Часа в три, при усилии встать с постели (хотя нас трое его поддерживали), он впал в сильный обморок. Ошибочно принявши это за агонию, я попросил священника читать отходную. Мне, кажется, что этого он и не слыхал, и не заметил; ибо, очнувшись минут через десять, он меня уверял, что крепко заснул. «Не нужно ли вам мне передать чего-нибудь? Бог милостив, вы выздоровеете; но выздоровление ваше будет продолжительно». - «Не могу говорить», отвечал он мне: «очень тяжело». Разумеется, после этого ответа я уже не стал его беспокоить и тревожно ждал, что Бог даст. Часов до шести не было заметно особенной перемены. В начале 7-го часа, беспрестанно прикладывая руку к его руке, к его ногам, я вдруг заметил, что они сделались легче и влажнее. Немедленно стали мы его растирать сильнее прежнего и обложили горчичниками. Через полчаса теплый пот пробился на боках, на шее и на спине; ноги согрелись; пульс, совершенно исчезнувший с самого утра, начал показываться, одни только руки оставались холодными, как лед. Все как будто шло к лучшему, и я начал надеяться. В это время жена моя прислала узнать о здоровье Алексея Степановича. Я хотел отойти от постели, но он меня удержал и спросил, куда я иду. «Посылаю добрую весточку. Слава Богу, вам лучше». - «Faites vous responsable de cette bonne nouvelle: je n'en prends pas la responsabilité» [v], сказал он почти шутя. «Право, хорошо; посмотрите, как вы согрелись, и глаза посветлели». - «А завтра как будут светлы!» Это были его последние слова. Он яснее нашего видел, что все эти признаки казавшагося выздоровления были лишь последние усилия жизни. В 7 1/2 часов дыхание его стало тяжко. Я не спускал с него глаз. В 7 3/4 вечера его не стало, а за несколько секунд до кончины, твердо и вполне сознательно, он осенил себя крестным знамением». Немноголюдны были похороны Хомякова. На этот раз общество не проявило обычного своего лицемерия: не хотев знать живого, не стало выхвалять мертвого. Но нашлись и люди, понявшие размер понесенной утраты. Не стало человека, тридцать лет будившего русскую народную совесть, человека, уяснившего России её веру, призвание, примирившего ее со стариною. Не стало того, кто положил начало многому доброму, чтó с тех пор возникло и еще будет возникать в России. Общество Любителей Российской Словесности, которого Хомяков в последнее время своей жизни был председателем, посвятило его памяти заседание 6-го ноября. П. И. Бартенев прочел воспоминание о нем - единственный до сих пор, хотя и краткий, биографический очерк. В повременных изданиях появились некрологи: в «Русском Вестнике» М. Н. Лонгинова, в «Московских Ведомостях» Н. Ф. Щербины, и в «Петербургских Ведомостях» А. Ф. Гильфердинга. В Петербургском университете К. А. Коссович посвятил памяти Хомякова целую лекцию, в которой он с обстоятельностью ученого и с горячею любовью друга очертил общественное значение своего покойного наставника. Помянули Хомякова и за рубежем. В Edinburgh Review 1864 года читаем: «We cannot doubt that there will arise in the Church of Russia some who may still carry on the echo of those marvellous letters of the Christian Orthodoxe, in which the lamented Khomiakoff poured forth his aspirations after the future through a union of tenacious adherence to ancient Opthodoxy with a firm confidence in the results of biblical criticism and christian charity, such as we have never seen surpassed»[vi]. Но все же смерть Хомякова прошла почти незамеченною. Иначе и быть не могло: брошенные им семена еще не успели тогда взойти. С тех пор идет четвертое десятилетие. Алексей Степанович Хомяков лежит в Москве, в Даниловом монастыре, под одним памятником со своею женою, им самим еще поставленном, со словами псалма: «Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?»[vii] К этому тексту после его кончины прибавлен другой: «Блаженни алчущие и жаждущие правды». На памятниках кругом имена Валуева, Языкова, Гоголя, Самарина, Кошелева, князя Черкасского и многих других, памятных Москве и России. Неотразимо действует на душу эта нива смерти, сокрывшая останки людей, которыми возродилась Русская жизнь. Невольно вспоминаются их сотрудники: Аксаковы, отец и сын, тут же, недалеко, под Симоновым, третий, последний Аксаков - у Троицы, и в дальней Оптиной Пустыне - братья Киреевские... Дружным, неустанным подвигом добра подвизались всю жизнь свою эти достопамятные люди, не теряя бодрости перед ледяным равнодушием общества, не чая себе слова благодарности от тех, кому несли они свет истины, зная, что не увидать им плодов тяжелого труда своего. Костьми легли они на поле брани духовной, по слову вождя своего - Чтоб страданьями свободы Покупалась благодать, Чтоб готовились народы Зову истины внимать; Чтобы глас её пророка Мог проникнуть в дух людей, Как глубоко луч с Востока Греет влажный тук полей [viii]. ____________________________ [i ] Прекрасно выражаемая французским словом sérénité, как заметил нам один из ныне живущих его друзей. [ii] Средство это (чистый деготь пополам с конопляным маслом) было много раз испытано пишущим это в холеру 1893 года. Действие его поразительно. В полном развитии болезни один, много два приема тотчас останавливают рвоту, быстро ослабляют и вскоре совсем прекращают понос, а через какие-нибудь полчаса во всем теле больного проступает теплый пот. Смертность при этом бывает ничтожная. Первый прием - полстакана смеси, второй - в половину первого. [iii] В этой машине Хомяков задался мыслью дать непосредственно вращательное движение в замен прямолинейного, на переход коего во вращательное тратится непроизводительно много силы. Эта машина была им названа Moskowka, Rotatory Steamengine. [iv] Выдержки из сочинений Хомякова, написанных по-французски, приводятся нами в переводе, напечатанном в Собрании его сочинений и принадлежащем Н. П. Гилярову-Платонову и Ю. Ф. Самарину. [v] Отвечайте сами за эту добрую весть: я не беру на себя ответа за нее. [vi] Перевод. Мы не можем сомневаться в том, что в Русской Церкви восстанет кто-нибудь, кто еще поддержит отголосок тех чудных писем православного христианина, в которых оплакиваемый нами Хомяков выразил свои надежды на будущее, соединив столько приверженности к древнему Православию с твердою верою в выводы библейской критики и с христианским милосердием, коих на наших глазах никто не превзошел. [vii] Выбор текста находится в несомненной связи с тем взглядом Хомякова на смерть жены, о котором мы говорили выше. [viii] Последние стихи Хомякова. _____________________________ http://ruskline.ru/analitika/2015/11/07/aleksej_stepanovich_homyakov_ego_zhizn_i_sochineniya/
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
|



