Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #15 : 24 Мая 2013, 10:11:30 » |
|
Философ и филологСвятой Кирилл – просветитель славян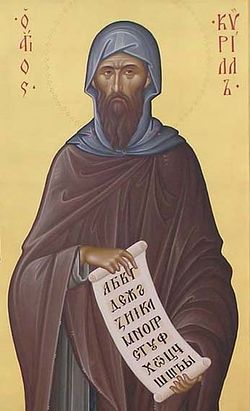 Святой Кирилл-Константин Святой Кирилл-Константин14/27 февраля – день памяти равноапостольного Кирилла († 869), просветителя славян. От времени жизни святого Кирилла нас отделяет больше 1100 лет. Сквозь слой веков, как сквозь толстое мутное стекло, трудно, кажется, что-то разглядеть. О многих знаменитых людях той эпохи мы подчас не знаем ничего, кроме имени. Создатель славянской азбуки в этом отношении оказался в положении исключительном. Можно сказать, что нам повезло. Уже вскоре после кончины Кирилла и Мефодия были созданы их жизнеописания. Причем созданы их ближайшими учениками и «по горячим следам», когда обстоятельства жизни славянских первоучителей не успели забыться. В написании жития святого Кирилла, вероятно, принимал непосредственное участие Мефодий, передавший подробные сведения о детских годах своего брата. Когда листаешь «Пространные жития» Кирилла и Мефодия, этот замечательный исторический источник, одно из первых произведений славянской литературы, перед глазами разворачивается увлекательная история, в которой соседствуют описания спокойных лет учебы и полных приключений миссионерских путешествий в отдаленные страны Востока, свидетельство о напряженной научной работе и картины жизни столичного царского двора, рассказ о монашеском уединении и полное драматизма повествование о просветительских трудах Кирилла и Мефодия у славян. Отдельное внимание привлекает рассказ о детстве святого Кирилла, в котором замечательны два эпизода – повествование об унесенном ветром ястребе и о чудесном сне, увиденном однажды Кириллом. Представьте себе подростка по имени Константин (так звали святого Кирилла до монашеского пострига), который воспитывается пусть в не очень богатой, но и в совсем не бедной семье. Его отец занимает немаловажную государственную должность в Фессалониках – втором по величине городе Византийской империи. Любимое развлечение этого мальчика, как, впрочем, и других молодых людей его круга, – ястребиная охота. Отец подарил ему обученного ястреба – довольно дорогой, как известно, подарок. Однажды Константин отправился с друзьями на охоту. И вот, когда его птица взмыла в небо, чтобы обнаружить добычу, поднялся внезапный порыв ветра, подхватил ястреба и унес. Сказать, что Константин расстроился, – значит не сказать ничего. Горю его не было предела. Два дня от огорчения он не ел хлеба. «Реакция ребенка, потерявшего игрушку», – скажете вы. Но выводы из этого случая Константин сделал совсем не детские. «Подумав в душе о суетности жизни этой, – рассказывает его жизнеописатель, – покаялся, говоря: “Такова ли есть эта жизнь, где на место радости приходит печаль? С этого дня вступлю на другой путь, что этого лучше, и в волнении жизни этой своих дней не растрачу”». Таким путем для Константина стало учение. Образование сегодня стремятся получить все. Если спросить: зачем? – последуют ответы: чтобы получить профессию и зарабатывать на жизнь, чтобы потом сделать хорошую карьеру, чтобы быть «успешным» и т.д. Но затем ли учился Константин? В его житии есть описание сна, приснившегося ему, когда он был еще семилетним ребенком. Мальчику снилось, что стратиг (то есть градоначальник) Фессалоник собрал всех девушек города и сказал Константину: «Избери себе из них, кого хочешь, в супруги на помощь тебе и сверстницу твою». В Византии такие «смотры невест» были известны; правда, происходили они в связи с женитьбой императора: со всех областей империи специальные комиссии собирали красивых девушек, из которых царь и избирал себе невесту. Каким же был выбор Константина? «Я же, рассмотрев и разглядев всех, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом и всей красотой, имя же ее было София, то есть Мудрость, и ее я избрал». Все значение этого сна можно понять, если вспомнить, что в православной Византии мудростью считали не только изощренность ума или обилие эрудиции. В церковном богословии Мудростью, или Премудростью, Божией именуется Сын Божий – Иисус Христос. Для Константина с юных лет стремление к Мудрости было не просто стремлением к книжному научению, но стремлением ко Христу. Поэтому и в церковной агиографии он остался как Константин Философ. Философ по-гречески значит «любящий мудрость». Эти два замечательных случая из детства святого Кирилла соотносятся как вопрос и ответ. Потеря ястреба дала мальчику почувствовать то, что русский философ XIX века В.И. Несмелов называл «загадкой человека»: существуя во времени, человек не сводится ко времени – потеряв ястреба, Константин обнаружил, что житейские блага переменчивы и недостаточны, чтобы придать жизни смысл. Именно это чувство и делает человека человеком – существом, которое хочет не только жить, но и знать, зачем живет. Потому что человек – не только прямоходящий, умелый, разумный. Человек – еще и спрашивающий. Он отличается от животного тем, что может не только просить, но и спрашивать. Спрашивать не из простого любопытства, но потому, что хочет знать смысл: зачем он живет, зачем существует мир. Часто этот вопрос казался людям безответным, и тогда человек ощущал себя тем, что экзистенциалисты называли «passion inutile» – «бесполезная страсть». Когда-то давно античный философ Сократ беспокоил своих сограждан именно такими вопросами: что такое добро, справедливость, истина? Никто не мог ему толком ответить на них, а про себя он знал, что ничего не знает. В конце концов его казнили, потому что искать ответ – трудно, и часто поиски ответа кажутся людям безрезультатными. Куда и к кому обращен вопрос человека о смысле существования? И можно ли получить на него ответ? Может быть, прав Гейне: «А мы все спрашиваем, спрашиваем, пока комок земли не заткнет нам горло, но разве это ответ?» Кирилл и Мефодий пишут азбуку - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.) Кирилл и Мефодий пишут азбуку - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.) Но ответ пришел. И пришел он через Слово. Больше чем 2 тысячи лет назад в городке Вифлееме родился Христос, Который в Библии называется Словом – Вечным Божественным Словом, дающим миру жизнь и смысл. Именно Его красотой – красотой Премудрости-Софии – и пленился в детстве святой Кирилл. Именно в Нем и был ответ на духовное искание мальчика, решившего «в волнении жизни этой своих дней не растратить». А потому Кирилл-Константин был настоящим филологом – «любящим Слово» по-гречески. Он всю жизнь стремился ко Христу, Которого апостол Иоанн назвал в Евангелии Логосом-Словом. Христос принес миру Свое слово, записанное в Евангелии. Он победил бессмыслицу смерти Своим воскресением. Слово Его обращено ко всем – ко всем людям, ко всем народам, ко всем эпохам. Оно звучит на разных языках. На славянский его перевели Кирилл и Мефодий, и оно стало тем зерном, из которого выросла русская культура. Оно звучало в ней тысячу лет, звучит и сейчас. Но, как и во времена Сократа, многим сейчас кажется, что проще жить, «не грузясь» – ни о чем не спрашивая. Не слыша Слова. Беря от жизни все – но ведь нас самих когда-то возьмет смерть и сделает все, что мы взяли, бессмысленным и ненужным – «заткнет нам комком земли горло». И исход из этого только один. Победил смерть Христос – Своим воскресением. Эта победа может стать и нашей через Него, через Слово. Для этого лишь нужно расслышать Его обращение к нам – и Кирилл и Мефодий помогают это сделать, ведь их наследие живет в нашем языке, который, по выражению Вяч. Иванова, «неразрывно слился с глаголами Церкви». Поэтому, когда мы называем равноапостольных братьев просветителями, то речь идет не только о просвещении в смысле распространения грамотности, наук и образования, но и о просвещении в смысле, о котором напоминал Н.В. Гоголь: «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит…» Такова сила христианского просвещения: оно предлагает людям не только вопросы, но и дает ответы. В этом сила христианской философии и филологии как пути к Слову, который открыт в славянском культурном наследии Константином-Кириллом Философом и его братом Мефодием – просветителями славян. Священник Димитрий Долгушинhttp://www.pravoslavie.ru/put/59783.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #16 : 24 Мая 2013, 10:14:31 » |
|
Святые Кирилл и Мефодий в судьбах славянских народовРадуйтеся, Мефодие и Кирилле,
язык словенских апостоли и богомудрии учителие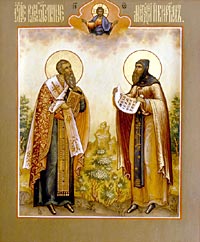 Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий Святые равноапостольные Кирилл и МефодийНекогда святой апостол Павел, простираясь с проповедью Евангелия из одной страны в другую, дошел до предела, который положила природа между двумя частями света – остановился в Троаде, на берегу пролива, отделяющего Азию от Европы. Здесь явился ему в сновидении один из жителей Европейского берега, македонянин, и звал апостола на помощь к себе в Македонию (Деян. 16:8-10). То была воля Божия даровать этому племени благо спасения. Апостол повиновался этому призванию, и многими благодарными успехами сопровождалась его проповедь в той стране. Церковь Филлипийская и Церковь Солунская – образец всем верующим (Сол. 1:7), радость и венец апостола (Фил. 4:1) стоят перед нами в павловых писаниях вечными памятниками и свидетельствами его просветительской деятельности. Прошли столетия, и наступила другая пора, когда славянские народы, только-только выходящие на сцену исторической жизни, стали нуждаться во вразумительной проповеди и национальном богослужении. И вот в 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии князя Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил отправить туда ученых монахов, знакомых с жизнью и нравами местного населения. И тогда-то Церковь Македонская представила славянам равноапостольных деятелей, в лице святых Кирилла и Мефодия, уроженцев Солунских. Эти просветители стали составителями славянской грамоты. Новым письменам было вверено слово Евангельское, ими были переданы молитвы богослужения. И благодаря святым Кириллу и Мефодию, славяне стали слышать на родном языке слово Господа, и смогли также достойно славословить Его. Это есть две необходимые потребности благочестия, без удовлетворения которых нет живого христианства. И как скоро явились слово Божие и литургия на славянском языке, то возникла необходимость в священниках-славянах. Следовательно, должна была народиться у славян своя священная иерархия – важное условие для процветания каждой Церкви в своем народе. И, действительно, первым делом просветителей стало приготовление из местных жителей достойных служителей алтаря Господня. Задуманное на таких широких и прочных основаниях просвещение славян не могло обойтись без училищ. И святые благовестники основывали их везде, где трудились. Эти училища удовлетворяли не только потребностям клира, но и способствовали появлению людей образованных, которые могли сами поработать на пользу новооснованной Церкви славянской. Одни переводили с греческого языка для назидания церковного и домашнего слова и жития святых; другие передавали догматические творения отцов и толкования на Священное Писание; иные сами брались изъяснять Писание и защищать истину Православия от еретиков. Замечательное обилие таких трудов в первое время славянской проповеди показывает как благотворна была деятельность наших просветителей. Какая это была высокая жизнь, какая сильная и плодотворная деятельность! На земле славянской возгорелся божественный огонь святой Христовой веры. И, если обратить внимание на первоначальные памятники древней славянской письменности, то видно как в них полагалось начало богословскому и философскому языку – основам того положительного знания, которым впоследствии так прославилась славянская ученость. Постепенно начинали вырабатываться теперь установившиеся термины для предметов отвлеченных, прежде принятия христианства славянам неизвестных. Это говорит о том, с каким вниманием и разборчивостью действовали просвещенные переводчики. Так в греческих произведениях нередко встречали они слово «божественный», относящееся к предметам и действиям не собственно Божиим. И чтобы не смешивать понятий в новопросвещенных христианах, они употребили прежде неизвестные слова «великiй», «святый». Для обозначения добродетелей стали использовать «добровольство», «добронравiе», «добрый нравъ», «доброта», полагая при этом, что сущность добродетели состоит не во внешней деятельности, а в благоустроении воли и нрава. Но святые просветители имели дело не только со школой, а прежде всего с народом: с ним-то они должны были говорить особенным языком, чтобы действовать на него успешнее. Следует заметить, что святой Кирилл, прозванный за свою ученость Философом, особенно владел искусством излагать народу свои наставления наглядно, в притчах. Это мудрое подражание евангельскому способу учения, конечно, не утратило своего значения и в настоящее время, в приложении к народу, не привыкшему к отвлеченным умозрениям. Благодаря такому тесному сближению с людьми славянские просветители полностью овладевали его вниманием. Но призванные трудиться для крещенных в веру Православную, святые Кирилл и Мефодий своей ревностью, своей проповедью, своим чинным богослужением привлекали к себе и множество неверующих во Христа славян. Многих из них крестили святые братья в Моравии и соседних с ней областях; святой Мефодий проповедовал Евангелие в земле Чешской и крестил святую княгиню Людмилу. Пример равноапостольных братьев, и труды их в переводе священных книг облегчили успехи проповеди христианства среди славян и в последующее времена. Восточным и южным славянам не навязывалась латинская литургия, как это было со стороны немецких проповедников в Поморье. И везде, где разумно предлагалась проповедь на родном языке, славяне свободно покорялись христианству, принимая вместе с ним и письменность. Пример славянских просветителей стал впоследствии живым предметом для подражания и у нас в России для распространителей Евангелия у инородцев. Так действовали святитель Стефан в Перми, преподобный Трифон Вятский и другие позднейшие благовестники среди якутов, монголов, алтайцев и т.д. Вводя у славянских народов слово Божие и литургию на общепонятном языке, святые просветители Кирилл и Мефодий решили вопрос о нашем Православии и о будущем славянских народов. В те годы уже разгорался спор между Восточной и Западной Церквами, возбужденный притязаниями властолюбия и своелюбия римских первосвятителей. Святой Кирилл был учеником блаженного Патриарха Фотия, вставшего на защиту Православия и Православной Восточной Церкви. Действуя на территории, независимой от Константинопольского Патриархата, но примыкающей к Римскому престолу, славянские просветители должны были соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не вооружить против себя власть Рима в ущерб отеческому Православию. Свидетельство тому их великое исповедание веры. Этой твердостью они удержали в Православии просвещенные ими народы. А неразумное гонение, поднятое Римской Церковью против славянской литургии, еще более расположило славян бояться сближения с Западом и дорожить богомудрой свободой Православного Востока. Так святые просветители определили нашу историю, наше духовное наследие, наше спасение. Как ни велико было дело изобретения славянской грамоты, как ни знаменательно для каждого народа начало его письменности – все это было воспринято еще и как мощнейшее орудие, получившее надлежащий смысл в великом торжестве устроенного просветителями предприятия. На этих могучих основах дело просвещения охватило тогда все славянство, и не в общих отвлеченных чертах, а в живых представителях тогдашнего славянского мира, в типичных и крупнейших его лицах. В ветви Болгарской, где зародилось, и где затем величественно расцвело это великое дело славянского просвещения; по Дунаю, где шли первоучители между славянскими поселениями; в Моравии, где они сосредоточили всю силу лучшей поры своей деятельности; в Словении, Чехии, Польше, куда по окраинам обширной Моравской державы быстро проникли лучи нового просвещения; в Сербии, спешившей присоединиться к общему делу, и принявшей его под кров своего могущества из рук слабеющей Болгарии; и, наконец, на юге Руси. Именно там святой Кирилл посеял неумирающие семена своей проповеди в Херсоне, куда пришел потом князь Владимир Киевский, чтобы завоевать ключи этого новоявленного света. Именно оттуда пришли на Русь болгары с новой грамотой, новыми книгами и православным богослужением, славянским церковным пением, и откуда Нестор-летописец почерпнул горячо выраженное им убеждение, что при единстве грамоты, славяне есть один язык и народ, а Русь есть часть этого великого наследия и богатства. Действительно и грамота, и вся письменность тогда возникшая, до сих пор заключают в себе черты истинного, действительного просвещения. Это просвещение стало источником и символом славянского единения. И все ветви славянства почувствовали свое общее, коренное единство племени, затем единство языка, выражавшего собой единство народных стихий, и послужившее затем новым средством высшего, духовного единства. Все это совершилось при помощи грамоты, порожденной ею письменности и вызванного всем этим высокого творчества славянской культуры. И тогда большая половина Европы от Царьграда по всей восточной половине Балканского полуострова, в обширном Болгарском государстве, по течению всего Дуная, в современной Венгрии, до окраин Польши, Чехии, Хорватии и Сербии, наконец, до Киева и Новгорода пробудилась в грандиозном историческом движении. Здесь к новой жизни призвались целые народные массы, обмениваясь посольствами и письмами друг с другом, налаживая различные культурные и торговые связи. Лучшие вожди народные, образованнейшие славянские умы того времени – все были соединены в общем деле; в трудах пребывали все правительства славянских народов, во главе деятельности – государи: Михаил Греческий; Борис и Симеон Болгарские; Ростислав, Святополк Моравские; Владислав и Людмила Чешские; Российские Ольга, Владимир и Ярослав – какие великие имена, какая несравненная сила! И в наши дни каждое новое разыскание о славном деле славянских просветителей, каждый новый труд по церковно-славянской грамматике или печатное издание памятника кирилловской письменности, проливают свет на современные славянские наречия, на судьбы славянской науки. Труды современных славистов, устремленные своим взором в ту далекую пору и эпоху, помогают понять пути развития современных славянских языков и всей славянской литературы. А сама история славянских народов уясняется тем более, чем ближе мы приникаем к их единому великому началу. И если осознание этого начала оказывает такое сильное влияние на современную славистику в науке и жизни, то, наоборот, каждое новое явление в жизни современного славянского мира пробуждает собой память о прошлом, дает повод лучше понимать его, ценить, исследовать и воссоздавать. Понятно поэтому, что в наши дни дело святых равноапостольных Кирилла и Мефодия еще не кончено. Их проповедь вызвала к бытию самостоятельную славянскую иерархию, трудами их положены начала разработки богословской, исторической и филологической наук у славянских народов. А в современных условиях необходимо продолжение дальнейшего развития всего этого положительного знания. И много нужно еще ревности, много общих усилий, чтобы достойно продолжать дело святых просветителей. Припоминается здесь предсмертное слово святого Кирилла. Застигнутый смертельной болезнью еще в расцвете лет, почти в самом начале своих трудов среди славян и в виду множества предстоявших работ, он трогательно прощался с братом, опасаясь, что у того родится намерение возвратиться к прежней иноческой жизни в монастыре. «Мы с тобою как два вола вели одну борозду. И я падаю на своей черте, день мой кончился. А ты не вздумай оставить труды учения, чтобы удалиться на свою гору. Нет здесь, среди славян, скорее ты можешь обрести спасение». Пусть это завещание святой ревности отзовется самым сильным возбуждением в душе каждого из призванных и вновь призываемых деятелей на поприще просвещения и учения. И вот последнее воспоминание. Между древними молитвословиями церковнославянских книг сохранилось одно, «при начале учения», в котором иерей молится об отроке: «дай же ему, Господи, от Давидова разума, от Соломони премудрости, и от Кириллова хитрости. Дай же ему стояти с иереи и со всеми святыми Твоими». Для того-то испрашивается среди прочего хитрости, то есть остроты ума мудрого учителя славян Кирилла, чтобы постигающий новые знания мог с достоинством и на пользу применять их на благо себе самому и другим людям. Да будет же это прошение постоянным желанием в умах и сердцах всех нас, призванных сохранить и преумножить славное наследие великих славянских учителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Андрей Мельков
Московский педагогический государственный университет – Коломенская духовная семинарияhttp://www.pravoslavie.ru/put/1722.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #17 : 24 Мая 2013, 10:17:53 » |
|
О паннонских житиях святых Кирилла и Мефодия Каждому русскому человеку, как и вообще каждому славянину, одинаково дорого и священно имя славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия. Ближайшие свидетели их великого дела почтили память своих учителей прекрасными житиями, похвальными словами, службами; краткие жития и многочисленные легенды появлялись и позднее; о них говорят славянские летописи, их имена заносятся в славянские святцы. Эти жития и легенды о них были написаны не только на славянском, но и на греческом и на латинском языках. Однако все эти биографические источники о святых братьях представляли существенные затруднения для исследователей из-за своих разночтений. «По одним источникам Кирилл и Мефодий были греки, по другим – славяне; по одним старший из братьев был Мефодий, по соображению с другими – Кирилл. Изобретение славянской грамоты одни источники приписывают Кириллу, другие – Мефодию, третьи – обоим, и при этом сами свидетельства об этом, при своей неопределенности, дают возможность под именем «славянских письмен» понимать одним исследователям – азбуку кирилловскую, другим – глаголическую. Местом изобретения славянской азбуки одни источники назначают Царьград, другие – Моравию, третьи – Болгарию, четвертые – Херсонес, где будто бы Кирилл нашел уже готовые письмена. Временем изобретения славянской азбуки по одним известиям был 855 год, по другим 862 год, по третьим 865 год и т.д.»[i ]. Поэтому, имея столь большой и противоречивый биографический материал, исследователи старались выявить достоверные источники. К этому много усилий приложили и наши русские исследователи. Жизнеописаниям святых братьев посвящена обширная отечественная литература[ii]. В настоящее время в науке к источникам о жизни и деятельности святых братьев относят латинские, греческие и древнерусские памятники. В России исследования шли следующим образом. В наших библиотеках сохранилось очень много памятников начальной славянской письменности. До XVI-го века к источникам о жизни и деятельности святых Кирилла и Мефодия относили только латинские. Святитель Макарий Московский – продолжатель литературных трудов архиепископа Геннадия Новгородского, двенадцать лет трудившийся над составлением своих Четьих Миней, включил в них т.н. Моравско-паннонские жития и проложные жития Кирилла и Мефодия. В этих Четьих Минеях житие Константина философа находится под 14 февраля, а житие Мефодия под 6 апреля. В конце XVII-го века в Малороссии начинается составление новых Четьих Миней и, впервые – их печатание. Составителем их был святитель Димитрий Ростовский. Но у него житие Кирилла и Мефодия находится под одиннадцатым числом мая месяца под таким заглавием: «Житие и труды преподобных отец наших Мефодия и Костантина, в монашестве Кирилла, учителей славянских». Этот факт позволяет предположить, что, по всей видимости, автор пользовался не самим текстом Макарьевских Четьих Миней, а копией с рукописи Хиландарского монастыря, содержавшей это житие[iii], Известный немецкий историк и филолог Август Людвиг Шлецер (1735 – 1809), скептически отнесся к Паннонским житиям, признавая, однако, что всю историю Кирилла и то, что относится к ней, нужно исправить, дополнить и переделать именно с Макариевских Четьих Миней.[iv] После Шлецера источниками о жизни и деятельности святых братьев занялся чешский исследователь, аббат Йозеф Добровский (1753 – 1829), написавший сочинение «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. Историко-критическое исследование»[v]. Он обратился не к Макарьевским Четьим Минеям, а к другому источнику: к тому времени недавно найденной греческой биографии болгарского архиепископа Климента. В России впервые с этим трудом Й. Добровского познакомились в 1825 году: П.И. Кеппен на страницах своего журнала «Библиографические листки»[vi] опубликовал в русском переводе отрывки из этого исследования. Но на четьи-минейные жития святых Кирилла и Мефодия не сразу обратили внимание и наши ученые XIX-го века. Их недооценивал даже такой знаток российских древностей, как граф Н.П. Румянцев[vii]. Первым, кто обратил должное внимание на церковнославянские жития святых Кирилла и Мефодия, явился А.В. Горский (1812-1875) – замечательный церковный историк, археограф, впоследствии ректор Московской Духовной Академии.[viii] Его знаменитая статья, напечатанная в журнале «Москвитянин»[ix] в 1843 году, привлекла как к Александру Васильевичу, так и к его трудам внимание многих русских и иностранных исследователей. В этой драгоценной статье, автор которой скрыл свое имя, обращено внимание на славянские жития наших первоучителей. Сначала критически рассмотрены эти жития, потом изложено содержание их в 28 параграфах, к которым присоединены объяснения и примечания. А.В. Горский начинал свою статью с указания, что со времени Й. Добровского история святых Кирилла и Мефодия раскрывается на основании памятников латинских: прежде всего «Истории перенесения мощей св. Климента в Рим» (т.н. Итальянская легенда). «Добровский мало доверял греческому жизнеописанию болгарского архиепископа Климента, ученика Мефодиева, – пишет Александр Васильевич, – еще менее – славянскому жизнеописанию святых Кирилла и Мефодия».[x ] В своей работе А.В. Горский преимущественно обращается к Четьими Минеями святителя Макария, раскрывая глубокую древность славянских житий святых Кирилла и Мефодия. К выяснению деятельности святых первоучителей привлечены были оба их жития, которые Александр Васильевич нашел в библиотеке МДА, и предложенные объяснения были даны с глубоким знанием и критическим талантом. В своей статье Горский, строго придерживаясь текста житий, обстоятельно излагает биографию святых Кирилла и Мефодия, снабжая ее основательными критическими замечаниями, хронологическими и историческими, воспользовавшись для этого византийскими и западными источниками. Сами выводы, к которым пришел А.В. Горский, сохраняют ценность и актуальность до сих пор. Они следующие: оба жития сохранились в своем изначальном виде, без особых искажений текста и позднейших вставок; написаны они ближайшими учениками святых непосредственно после кончины каждого из братьев, то есть в IX веке, в Паннонии (кем именно, А.В. Горский не указывает). Таким образом, Горский сделал вывод, что Паннонские жития – один из самых полных источников о трудах и жизни равноапостольных братьев, составленный непосредственно после их кончины, в той среде, в которой они трудились. С тех пор жития, получившие название Паннонских, заняли первое место в ряду источников о жизни и деятельности святых братьев. «Это исследование Горского, – пишет Г.А. Воскресенский, – легло в основу большей части позднейших исследований о первоучителях славянских, а открытые им пространные славянские жития отодвинули на второй план прежние источники и сами заняли первенствующее место в кирилло-мефодиевской литературе»[xi]. Этим трудом Александра Васильевича сразу же воспользовались архимандрит (впоследствии митрополит) Макарий (Булгаков) в своей «Истории христианства в России до св. Владимира»[xii], епископ Филарет (Гумилевский) в статьях равноапостольных братьях,[xiii] и профессор С.П. Шевырев в «Истории русской словесности».[xiv] Статья А.В. Горского также была переведена на чешский язык[xv] и стала известна чешским и немецким ученым. Исследователь старины Эрнст Дюмлер напечатал статью Горского в своих комментариях к паннонскому житию святого Мефодия, переведенному по его просьбе Ф. Миклошичем на латинский язык. Дюмлер принял при этом почти все доводы и замечания Горского.[xvi] Прочитав житие святого Константина Философа (Кирилла), известный чешский филолог П. Шафарик с восторгом писал Горскому: «Житие Константина вами присланное, есть сокровище, перл».[xvii] В издании Паннонских житий П. Шафарика[xviii] житие святого Мефодия напечатано по списку, найденному Горским в одной из рукописей Московской Духовной Академии. Получив благодаря трудам А.В. Горского известность, пространные Жития Константина и Мефодия сразу же стали объектом специального изучения ряда поколений исследователей, среди которых были многие ведущие представители славистики не только славянских, но и неславянских стран. Исходя из этого, можно выделить два направления, по которым шло изучение этих памятников. Во-первых, это поиски списков памятников, их текстологическое сопоставление и подготовка издания текстов. Как главные вехи в этой работе следует отметить издания памятников, осуществленные в 1865 году О.М. Бодянским, в 1930 году П.А. Лавровым, в 1973 году болгарскими учеными Б.С. Ангеловым и Х. Кодовым. Во-вторых, это большое количество работ, посвященных установлению правильного смысла сказанного, устранению тех ошибок и искажений, которые имеются уже в самых ранних списках памятников. Как известный итог проделанной работы: суммирование наблюдений, рассеянных часто по мелким этюдам и заметкам, можно рассматривать переводы житий на другие языки, выполнявшиеся неоднократно и в XIX, и в XX веке крупными славистами. Из числа работ последних десятилетий следует отметить переводы таких знатоков кирилло-мефодиевской проблематики, как словенский исследователь Ф. Гривец (на латинский язык в 1960 г.), чешский исследователь Й. Вашица (на чешский язык в 1967 г.), французский славист А. Вайан (на французский язык в 1968 г.). К ним нужно присоединить и самый последний по времени перевод обоих памятников на болгарский язык, выполненный Х. Кодоковым для третьего тома собрания сочинений Климента Охридского.[xix] Все указанные переводы снабжены комментариями с обоснованием предложенного переводчиками толкования спорных мест текста. Эти комментарии вместе с переводом дают как бы сжатую сводку результатов, достигнутых на данном направлении изучения кирилло-мефодиевской проблематики. ___________________________ [i ] Воскресенский Г.А. Последние новости в кирилло-мефодиевской литературе // Богословский вестник. 1894. № 11. С. 540.
[ii] См.: Ильинский П.А. Опыт систематической Кирилло-Мефодиевской библиографии. София, 1934.
[iii] Лавров П.А. Труды славянской комиссии // Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л. 1930. Т. I. С. IV.
[iv] Там же. С. V.
[v] Cyrill und Method der Slaven Apostel. Praga, 1823.
[vi] Кирилл и Мефодий – учители словенские // Библиографические листки / Изд. П.И. Кеппеном. 1825. № 8.
[vii] Переписка А.Х. Востокова в повременном порядке, с объяснениями и примечаниями И. Срезневского. СПб, 1873. С. 231.
[viii] Об А.В. Горском см.: Мельков А. Ректор Московской Духовной Академии А.В. Горский и его вклад в развитие русской церковно-исторической науки // Журнал Московской Патриархии. 2002. № 12. С. 47-52.
[ix] О святых Кирилле и Мефодии // Москвитянин. 1843. Ч. III. № 6. С. 405-434.
[x ] Там же. С. 405.
[xi] Воскресенский Г.А. О заслугах протоиерея Александра Васильевича Горского для славяно-русской историко-филологической науки. // Богословский вестник. 1900. № 11. С. 449.
[xii] Макарий (Булгаков), архим. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю Русской церкви. СПб., 1846.
[xiii] Филарет (Гумилевский), еп. Кирилл и Мефодий, славянские просветители. М., 1846; Филарет (Гумилевский), архиеп. Житие святых Кирилла и Мефодия, славянских просветителей. СПб., 1885.
[xiv] Шевырев С.П. История русской словесности, преимущественно древней. М. 1846. 3. т.
[xv] Casopis Cesk. Mus. Praha, 1846.
[xvi] Dumler. Die pannonische Legende wom heilegen Methodius. Wein, 1854.
[xvii] Троицкий Н. Воспоминание о протоиерее А.В. Горском + 1875 г. окт. 11-го дня // Чтения в Московском Обществе любителей духовного просвещения. 1881. Т. 3. С. 423.
[xviii] Safarik P.J. Pamatky drevniho pismenictvi Jihoslovanu. Praha, 1851.
[xix] Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб., 2000. С. 12-13.Андрей Мельковhttp://www.pravoslavie.ru/arhiv/5263.htm
|
|
|
|
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013, 10:20:49 от Александр Васильевич »
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #18 : 24 Мая 2013, 10:25:56 » |
|
Неизвестная миссия Кирилла и Мефодия 24 мая Православная Церковь празднует память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, которые считаются создателями славянского алфавита и литературного языка. Многое из истории их жизни и миссии до сих пор остается неизвестным. О святых братьях и о деле всей их жизни мы поговорили с кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Отдела истории средних веков Института славяноведения РАН России Анатолием Аркадьевичем Туриловым. - Анатолий Аркадьевич,что конкретно сделали святые Кирилл и Мефодий в деле просвещения славянских народов? - Анатолий Аркадьевич,что конкретно сделали святые Кирилл и Мефодий в деле просвещения славянских народов?- Прежде всего, они создали литературный славянский язык на основе болгарских диалектов, а также славянскую письменность, хотя это была не та азбука, которой пользуемся мы, не современная кириллица. Также они перевели Священное Писание на славянский язык и положили начало как славянскому богослужению, так и славянской литературе. -Что они были за люди? Что-то известно об их характерах, их личностях?- Братья происходили из семьи византийского военного чиновника среднего ранга, жившего в Солуни. Это была достаточно состоятельная и образованная семья. Мефодий был старшим, он был намного старше Кирилла. Кирилл был самым младшим— согласно житию— седьмым ребенком в семье. По характеру, так как мы можем проследить это по житиям и другим материалам, это были люди достаточно разные. Кирилл был филологом, как говорится, от Бога. Он прекрасно обучался языкам и любил это занятие. При этом, вероятно, Кирилл знал немало языков. Кроме славянского, он знал еврейский язык; во время одной из поездок познакомился с арабским языком, когда сопровождал в качестве переводчика миссию в халифат. Очевидно, в определённой степени, он знал латынь, и даже сирийский язык. Знание святым Кириллом сирийского языка— это ключ к дальнейшему созданию славянского алфавита. Стоит заметить, что в то время сирийский знали немногие, а это еще раз свидетельствует о его высокой образованности. Исходя из этого, в дальнейшем, святой Кирилл сумел смоделировать из разговорных славянских языков - литературный, потому что, как известно, литературный язык отличается от разговорного — он должен быть нормализован и ориентирован на какой-то образец. Поскольку Кирилл был греком, то ориентация шла на греческий. Мефодий же изначально делал типичную карьеру византийского чиновника. В то время военная и административная служба, в принципе, не различались. Он был назначен управляющим неким округом, который был населен славянами. Очевидно, он показал себя хорошим администратором. Однако, после потери своей семьи, он принял монашеский постриг и поселился в Малой Азии, на южном берегу Мраморного моря. В дальнейшем именно оттуда он начинает сопровождать своего брата. Таким образом, такое сочетание ученого-филолога и администратора было очень удачным и приводило к хорошим результатам. Стоит также сказать о том, что братья были удачными воспитателями и учителями— они смогли оставить после себя целое поколение учеников. Деятельность учеников, в данном случае, такая же важная составляющая как и деятельностьсамих братьев. Большой круг переводов, новых литературных текстов был создан уже именно учениками святых братьев, перешедшими в 885 г. в Болгарию. Можно сказать, что без этого поколения учеников их миссия не дала бы тех результатов, которые в итоге были достигнуты. - Насколько достоверная информация о святых до нас дошла? Что исторически верно, а что из области легенд?- Исторические сведения в этом вопросе достаточно ограничены. За пределами житий других сведений очень мало и почти все они являются латинскими. С одной стороны, до нас мало дошло информации именно из Византии. Судя по сохранившимся сведениям миссия особенно никого не интересовала. К примеру, Кирилл был учеником Патриарха Фотия, но никаких упоминаний ни о самом Кирилле, ни о миссии нет ни в посланиях Фотия, ни в его проповедях. Поэтому именно здесь информация ограничена. С другой стороны, с момента, когда началось изучение житий, практически все исследователи отмечали высокую достоверность сообщаемых сведений. Конечно же, здесь могут возникать и некоторые сомнения. Так, например, в житии Кирилла уделено много места его полемике с иноверцами и еретиками. Достоверность того, что это происходило именно так, может вызывать сомнения. Скорее всего, в житии использовались отдельные полемические трактаты Кирилла, но он не выступал именно как устный оратор. Что касается легенд, то легенды возникают как правило позднее. Так, например, когда поздняя житийная традиция называет Кирилла архиепископом, то это ничем не подтверждается. Известно, что он не носил архиерейского сана. Еще один пример – когдав XII в. происходит «национализация» святых Кирилла и Мефодия в Болгарии, их начинают называть болгарами по матери. Это тоже легенда, так как ничем не подтверждается. В принципе, механизм возникновения подобных версий понятен— «для нашего народа письменность мог создать только наш человек». В целом же, та древняя житийная традиция, т.е. пространные жития святых Кирилла и Мефодия — это тексты очень высокой исторической достоверности. - Какова же роль братьев в создании алфавита для славян?- Дело в том, что только после середины XIX века устанавливается мнение, что несмотря на название современного алфавита кириллицей этот алфавит не был изобретен Кириллом. Как известно, есть два славянских алфавита — кириллица и глаголица. Что же говорит в пользу того, что Кирилл создал именно глаголицу? Глаголица -это искусственный алфавит, созданный с использованием начертаний восточных алфавитов. Учитывая тот факт, что Кирилл знал восточные языки, в этом нет ничего удивительного — знал языки, значит знал и алфавит. И вот эта искусственность как раз и говорит о том, что язык изобретен одним человеком. Есть и другие свидетельства. Например, цифровая система в глаголице абсолютно самостоятельна, поскольку в глаголице буквы являются одновременно и цифрами. В кириллице же цифровая система следует за греческой, буквы отсутствующие в греческом алфавите (например, Б), числового значения не имеют. Наличие такой цифровой системы является еще одним доказательством первичности глаголицы, потому что, если бы раньше была кириллица, то глаголица в этом отношении должна была бы следовать за ней. Кириллица же является результатом длительного использования греческого алфавита в Болгарии еще до принятия страной христианства. Ее оформление как славянского алфавита произошло на рубеже IX-X веков по Рождеству Христову. Одновременно это и соединение греческого алфавита с теми филологическими и лингвистическими принципами, которые были положены в основу глаголицы. Гениальность Кирилла как филолога состояла в том, что он создал очень удачную алфавитную систему, которая учитывала очень многие особенности любого славянского языка и даже некоторых соседних. Особенностью его глаголицы, а затем и усвоившей ее принципы кириллицы, заключается в том, что здесь не нужны никакие дополнительные значки при изображении букв, как, например, для передачи славянских языков в латинице — букв достаточно для того, чтобы передать особенности всех звуков. Кирилл смог учесть все особенности того или иного славянского диалекта. Это подтвердилось тем, что когда в дальнейшем где либо использовались различные региональные варианты кириллического алфавита, их создатели могли пользоваться алфавитом святого Кирилла практически ничего не меняя. Кириллу удалось настолько досконально проникнуть в строй и фонологию славянского языка, что был создан универсальный алфавит и с огромным потенциальным запасом. Причем эти особенности были учтены не только в глаголице, но и в кириллице. - А был ли какой-то алфавит до них? Вообще насколько было возможно возникновение развитой славянской культуры без участия христианства?- До глаголицы у славян существовали только различные устные диалекты, но не было единого литературного языка. Эти диалекты были во многом схожи, что позволяло греческим и латинским современникам святых братьев говорить о славянах как едином народе с относительно единым языком. Существует легенда, что когда Кирилл был с дипломатической миссией в Хазарии, он нашел в Херсонесе (на месте современного Севастополя) некие книги написанные «русскими письменами». И вот уже на протяжении более 150 лет идут споры о том, что же такое - эти «русские письмена»? Наиболее вероятно, что здесь идет речь о перестановки букв в слове («русский» вместо «сурьский», т.е. сирийский). Как следует из дальнейшего описания особенностей данного языка речь шла о сирийском языке. Уже в XII веке, на основе этого чтения, родилось «Сказание о русской грамоте», в котором утверждается что русская грамота никем не изобретена, а была послана Богом некоему русину, который показал ее Кириллу. Вот это, конечно же, легенда. Поэтому никаких реальных признаков наличия у славян самостоятельного письма до создания глаголицы нам не известно. Что касается вопроса о возможности возникновения всей славянской культуры, без участия персонально святых Кирилла и Мефодия, то в принципе это было возможно. Однако это было невозможно без принятия славянами христианства. Дело в том, что все новые алфавиты, созданные после Рождества Христова, возникали непременно на основе предшествующих и это было связано с процессом христианизации народов. Так, например, создание готских языка и алфавита в IV веке было связано с христианизацией готов, создание эфиопских языка и алфавита связано с крещением эфиопов и так далее. Поэтому христианизация народа, создание собственного литературного языка и создание алфавита являются одним неразрывным процессом. И прежде всего это относится именно к славянским народам, и именно потому, что в их отношении мы можем наглядно сравнивать семена, посеянные святыми первоучителями с выросшим из них мощным древом православной культуры. - Можно ли назвать еще какие-то явления в культуре (помимо непосредственно алфавита), которые были приобретены славянами именно благодаря Кириллу и Мефодию?- Ну, конечно же, это обретение славянами своего литературного языка, который, например, на Руси просуществовал, в качестве единого во всех сферах жизни, вплоть до начала XVIII века. Это и обретение славянского богослужения и собственной литературы. И, разумеется, главное – перевод на славянский язык Евангелия, так как приход христианства к славянам на их родном языке является явлением настолько глобальным и значимым, что масштаб его сейчас, наверное, мы не в состоянии осознать до конца, поскольку смотрим на ситуацию изнутри по прошествии более чем тысячи лет. Это лучше понимали и ощущали авторы житий святых братьев и их ученики, которые характеризовали это событие словами Библии: «И отверзлись по пророческому слову уши глухих, чтобы слышать слова Писания, и ясен стал язык гугнивых…» (Житие Кирилла Философа, гл. 15). Здесь нужно отметить, что святые Кирилл и Мефодий осознавали свою миссию как апостольскую, а себя в какой-то мере наследниками апостола Павла, поскольку несли свет учения Христа не какому либо отдельному народу, а всем славянам вообще. - Как же реагировали на деятельность братьев греческий Восток (Константинополь) и латинский Запад (Рим)?- Сложнее сказать как реагировал Константинополь, так как я уже говорил, что у нас не сохранилось об этом практически никаких сведений. В житиях говорится, что их отправили в Моравию (граница нынешних Чехии и Словакии) по просьбе местного князя, но дальше византийские источники о них молчат. Однако такое молчание не стоит считать чем-то особенным, так как в византийских источниках вообще крайне мало говорится о каких бы то ни было миссиях, куда бы они не направлялись, миссия Кирилла и Мефодия в этом смысле не исключение, а подтверждение правила. Существует известная недоговоренность и относительно истории самой миссии, т.к. моравский князь просил «учителя и епископа» - учителей ему послали, а вот епископа не дали. Что касается Рима, то здесь тоже немало сложностей. Тут необходимо разделять две вещи — позицию самого Рима и позицию немецких епископов, так как миссия святых братьев разворачивалась именно на тех землях, где до этого действовали немецкие миссионеры из соседнего Восточно-Франкского королевства, использовавшие в богослужении латынь. Поэтому вопрос соперничества острее вставал именно в отношении с соседними немецкими епархиями, а Рим постоянно проводил плавающую политику. Временами он поддерживал миссию Кирилла и Мефодия, временами запрещал богослужение на славянском языке, и в итоге запретил его в 885 г. окончательно. Как это нередко бывает в истории, миссия стала картой в сложной политической игре. На раннем этапе для Рима было выгодно поддержать ее деятельность и даже создать отдельную архиепископию (формально, возродив старую, с центром в городе Сирмий, севернее современного Белграда). По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года Мефодий был поставлен на эту кафедру (Кирилл скончался за полгода до этого в Риме). В каком-то смысле это был вариант, который устраивал всех. Моравские князья получили своего епископа. В достаточной степени ситуация удовлетворяла и Константинополь, потому что там никто не сомневался в приверженности Мефодия ценностям византийского православия и императору. Папский престол с одной стороны ограничивал тем самым влияние немецких епископов, проводивших политику, не во всем согласную с Римом. С другой, что, пожалуй, даже более важно, восстановление сирмийской кафедры со славянским богослужением открывало перспективы для распространения папского влияния среди многочисленных балканских славян и, потенциально, для возвращения под власть папы всего диоцеза Иллирик (Балканский полуостров без Константинополя с окрестностями), переданного под юрисдикцию Константинополя еще в первой половине VIII в. Однако в отношении славянского богослужения позиция Рима, как уже сказано, часто менялась (что диктовалось сиюминутной политической конъюнктурой) – от разрешения частичного употребления славянского языка при богослужении в качестве второго (после латыни) до полного запрещения. После смерти Мефодия в апреле 885 последовал окончательный запрет, сопровождавшийся изгнанием и продажей в рабство учеников архиепископа. Но видимое поражение дела жизни святых братьев в Моравии почти тут же сменилось его триумфом в радушно принявшей их учеников Болгарии. Сергей Миловhttp://www.pravoslavie.ru/smi/53764.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #19 : 24 Мая 2013, 10:30:24 » |
|
Св. Константин-Кирилл Философ об исламеКРАТКАЯ БИОГРАФИЯ Кирилл и Мефодий - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.) Кирилл и Мефодий - миниатюра из Радзивилловской летописи (XIII в.)Св. Константин родился в 826 г. в Фессалониках в семье друнгария (средний воинский чин в Византии) Льва, и был самым младшим из семи детей. Он смог получить хорошее образование в Константинопольском университете у известных интеллектуалов того времени — Льва Математика и свт. Фотия. Получив благосклонность логофета Феоктиста, стал заметен при дворе. После принятия пострига, был рукоположен в иерея и назначен секретарем у патриарха. Около 851 г. св. Константин был членом византийского посольства в Арабский халифат, возглавляемого известным дипломатом того времени Георгием Асикретом и имел диспуты с мусульманами о вере. После этого он посещал Херсон, где изучал древнееврейский и сирийский языки, а также участвовал в посольстве в Хазарский каганат, где добился определенных успехов для греков. Когда в Константинополь прибыло посольство из Великой Моравии с просьбой прислать учителя, который мог бы объяснить славянам истины христианского учения на их языке, эту миссию возложили на св. Константина, позволив ему, как он просил, создать для этого письменность. Вместе со своим братом свт. Мефодием они отправились в славянские земли, где и посвятили свою жизнь целиком делу составления славянского алфавита, переводу Писания и богослужебных книг, и утверждению христианства среди славян. В 869 г. он посетил Рим, где получил благословение и поддержку папы Адриана для служения на славянском языке. В Риме. св. Константин тяжело заболел и, приняв великую схиму с именем Кирилл, через два месяца умер. ТВОРЕНИЯВсе сведения, которые мы имеем о св. Константине и дошедшее до нас богословское наследие известно нам из Жития, которое было написано на славянском языке сподвижниками св. Константина в первые же годы после его смерти - около 870 г. По-видимому, это произведение является плодом совместного труда свт. Мефодия и его учеников, в том числе свт. Климента Охридского[1]. Большая часть “Жития” представляет собой “теологический компендиум, составленный из выдержек сочинений Константина”[2]. В Житии присутствуют тексты четырех диспутов, проведенных св. Константином: с иконоборцем Иоанном Грамматиком (V), с арабами-мусульманами (VI), со сторонниками иудаизма и ислама в Хазарии (IX-XI) и с латинскими священниками в Венеции (XVI). “Тексты эти, скорее всего, не созданы самим агиографом и представляют собой приспособленные к требованиям жанра извлечения из полемических сочинений Константина, написанных против сторонников соответствующих воззрений”[3]. Отдельно эти сочинения не сохранились. Для нашего исследования представляет интерес диспут с арабами. Очевидно, что он был составлен на греческом, еще тогда, когда св. Константин находился в Константинополе, вернувшись из Багдада. Описанный диалог даже в пересказе изобилует подробностями быта христиан в арабском халифате, речевые обороты выдают контекст переговоров, что не оставляет сомнений о записи св. Константином по памяти реальных диалогов. Поводом для посольства в Житии называется письмо, присланное от халифа к императору с критикой христианского учения о Боге-Троице. Вполне возможно, что это действительно было поводом для включения в состав посольства самого Константина — молодого придворного богослова, уже проявившего себя в диалоге с иконоборцем Иоанном Грамматиком. О том, что халифы, по примеру Мухаммеда, посылали византийским императорам письма, известно из истории, в частности, к Михаилу III было направлено два арабских послания с нападками на догмат о Троице, на которые по поручению императора писал опровержение Никита Византийский, еще ранее аналогичное письмо от Омара II получил Лев III. Основной политической целью посольства, по-видимому, было заключение перемирия и договор об обмене пленными, который состоялся несколькими годами позже. Из реплик арабов в диалоге с Константином видно, что речь шла о выплате дани со стороны Византии, однако насколько успешным было это посольство, сложно судить, поскольку в византийских источниках о нем не сообщаются. В репликах самого Константина имеется прозрачный намек на разговор о пленных. Житие очевидно содержит сокращения диалога, в одном месте житописатель пишет: “после того и другие многие вопросы задавали, испытывая его во всех искусствах, какие сами знали”. Кроме багдадской миссии, в рассказе о хазарской миссии св. Константин после диалога с иудеями отвечает на один вопрос, касающийся ислама: ... СОДЕРЖАНИЕ СОЧИНЕНИЯМусульмане направили императору письмо с нападками на учение о Троице. Константина посылают к арабам вместе с Георгием Асикретом. Прибыв к мусульманам, св. Константин стал свидетелем унижений христиан: согласно распоряжению халифа Мутаваккиля, они должны были иметь на дверях своих домов изображения бесов. Философ остроумно отзывается об этом, говоря, что демоны не могут находиться вместе с христианами, потому бегут за дверь, там же, где таких изображений нет, бесы, следовательно, живут внутри домов. Во время обеда происходит наиболее значительный разговор святого с мусульманскими учеными. Первое, что говорят арабы, они указывают на то, что “Божий пророк Магомет принес нам благую весть от Бога, обратил многих, и все мы держимся одного закона, ни в чем его не нарушая”, в отличие от христиан, которые, “соблюдая закон Христа, вашего пророка”, исполняют его различно, имея в этом разделения между собой. Св. Константин отвечает, что христианское богопознание весьма высоко и только “сильные разумом” могут в нем преуспеть, слабые же неуспевают, отчего и происходит неравномерность в исполнении Христова закона. Закон же мусульман удобен и легок, он заповедует лишь то, что все без труда могут делать - поэтому он и выполняется всеми одинаково. Но Христос, заповедуя то, что сверх естества, возводит человека ввысь, Магомет же, оставляя человека жить по его страстям, “ввергает вас в пропасть”. Затем арабы высказывают критику учения о Троице, как многобожия, замечая, что “если так говорите, тогда и жену Ему дайте, и пусть от него многие боги расплодятся”. На это Философ отвечает, что “Отец, Слово и Дух — три ипостаси в едином Существе. Слово же воплотилось в Деве..., как и Магомет, ваш пророк, свидетельствует, написав так: Послали мы дух наш к деве, ибо хотели, чтобы родила[4]”. Следующий вопрос арабов: если Христос заповедовал вам: молитесь за врагов, добро делайте ненавидящим и гонящим вас и щеку подставьте бьющим (Лк 6:27-29, Мф 5:39, 44), то почему же вы выступаете с оужием против делающих вам такое? В ответ святой говорит, что христиане стараются соблюсти не только эту заповедь Христа, но и ту, где говорится, что нет большей любви, чем если кто положит душу свою за друзей (Ин 15:13), так что “ради друзей мы и делаем это, чтобы с пленением тела и душа их в плен не попала”. Тогда ему указывают, что “Христос давал дань за себя и за других”, почему же христиане в таком случае не желают платить дани сарацинам? На это Философ возражает, что Христос давал дань римскому царству, следовательно, и ученики Его должны платить ее его преемнику - Константинопольскому кесарю. После этого происходит диспут о искусствах и науках, и когда св. Константин показал себя компетентным во всех их, арабы спросили: “как ты все это знаешь?” Отвечая на это, святой уподобил сарацин человеку с мешком морской воды, похваляющимся перед людьми, обладающими целым морем: “так и вы поступаете, ведь все искусства вышли от нас”[5]. Наконец, на традиционном для подобных посольских встреч показе дворца и богатств халифа, сарацины обратили внимание делегации на них, как на “дивное чудо, великую силу и огромное богатство” халифа. На это св. Константин отвечает, что Богу надлежит относить хвалу и славу, ибо Ему все пинадлежит и “все это — Его, а не другого”. МЕСТО В ВИЗАНТИЙСКОЙ АНТИИСЛАМСКОЙ ПОЛЕМИКЕГоворя о византийской полемике с исламом, как правило, забывают о сочинениях св. Константина Философа. Ни в монографии Khoury, ни в монографии Sdrak’и о нем даже не упоминается, что, на наш взгляд, ошибочно. Только о. Иоанн Мейендорф в своем обзоре обращает на него внимание, заметив, что рассказ о багдадской миссии “является богатейшим по содержанию и наиболее оригинальным”[6]. В этой традиции диалог занимает особое место: это отражение опыта живого столкновения византийца с миром ислама. Авторы, писавшие до него, либо постоянно жили под мусульманским владычеством, либо жили в Византии и знакомились с религией арабов через чье-либо устное или письменное посредство. Диалог св. Константина пронизан живым удивлением этим личным опытом, святой обращает внимание и дает богословское осмысление тех деталей и частностей, на которые не считали нужным обращать внимание первые, и о которых не могли узнать вторые, как, например, условия жизни христиан под мусульманским владычеством. Это действительно не диспуты, а отдельные перепалки, состоявшиеся по пути, во время обеда, на прогулке. То, что Житие сохраняет упоминания деталей такого рода, позволяет предположить, что антимусульманское сочинение Константина было свободным по форме, и скорее подобно “Письму своей Церкви” свт. Григория Паламы, нежели классическому диалогу, как у Феодора Абу Курры. Безусловно, св. Константин готовился заранее к своей миссии и должен был читать уже имеющиеся к его времени противомусульманские византийские сочинения. По тексту видно, что он был знаком с 100 главой ересиологического трактата прп. Иоанна Дамаскина, и использовал его аргументацию. Еводий в своей версии “Страдания 42 мучеников Аморийских” заимствует две реплики арабов из диалога св. Константина и влагает их в уста арабов, спорящих с мучениками. Ответами св. Константина Еводий, по-видимому, не был удовлетворен, в одном случае он дает целиком собственный ответ, в другом — значительно расширяет ответ св. Константина. Следует признать, что св. Константин — органичная фигура византийской полемической традиции, воспринявший идеи предыдущих полемистов и оказавший определенное влияние на некоторых последующих. Поэтому без него любой обзор византийской антиисламской полемики будет неполным, и тем более интересно, что пересказ его диалога явился также первым противомусульманским трудом на славянском языке. _______________________ [1] Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб., 2000. — С. 84. [2] Vavrinek V. Staroslovenske zivoty Konstantina a Metodeje. Praha, 1963. — S. 84. [3] Флоря Б.Н. Сказания... — С. 79. [4] Коран 19.17. [5] Аналогичные воззрения на соотношение между греческой и арабской учёностью у продолжателя Феофана. [6] Прот. Иоанн Мейендорф. Византийские представления об исламе // Альфа и Омега № 2/3 (9/10) 1996. — С. 138. Юрий Максимовhttp://www.pravoslavie.ru/put/1611.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #20 : 24 Мая 2013, 10:33:46 » |
|
Образ Кирилла и Мефодия в современной русской Минее Приближение 1000-летия России в 1862 году усилило в стране интерес к тем, кто стоял у истоков славянской грамоты. Именно тогда было много сделано для прославления святых Кирилла и Мефодия. Епископ Смоленский Антоний (Амфитеатров) составил в память Кирилла и Мефодия новое последование всей службы, при этом он бережно сохранил древний первоначальный текст. Эту службу включили в майскую Минею. Служба была отпечатана тиражом 35 тыс. экземпляров, включена в дополнительную Минею и была разослана по российским церквам, а также по храмам других славянских народов, которые использовали тогда русские богослужебные книги. Торжества 1862 года побудили митрополита Московского и Коломенского Филарета составить отдельную 1-ю песню канона 8-го гласа в честь Кирилла и Мефодия. Ее и ныне можно найти в майской Минее (Минея 1987: 411–412). Спустя два десятилетия — 6 апреля 1885 года — по всей России прошло празднование 1000-летия блаженной кончины святителя Мефодия. Тогда же составили акафист славянским апостолам. Служба просветителям была включена в Праздничную Минею: она стоит между майскими службами святителю Николаю и Константину и Елене (Минея 1994: 310 об. – 317 об.). Обратимся к современной служебной Минее, изданной в 80-х годах XX века по благословению патриарха Пимена и под руководством митрополита Питирима (см.: Минея 1987: 406–429). Какие темы стали главными в майской службе? На первом месте в службе Кириллу и Мефодию стоят темы света и просвещения. На первый взгляд может показаться, что это разные темы, но христианская традиция при слове «свет» имеет в виду не видимый физический свет, а Божественный, нетварный, фаворский, как его называют. И просвещение в христианской традиции — это не распространение образования и грамотности, а просвещение всего человека светом веры Христовой. Поэтому в службе читаем: Кирилл и Мефодий просветили «светом Евангелия» «языки словенские», они потрудились в просвещении славян «светом Боговедения» (Минея 1987: 407). На Литии в одной из стихир поется, что Кирилл и Мефодий просветили народы Крещением святым. (Минея 1987: 408). Конечно, в службе говорится, что святые братья просветили славян письменностью, но грамота была только средством для просвещения светом веры Христовой. О таком виде просвещения в тексте майской службы упоминается 21 раз. Вместе с тем Кирилл и Мефодий не только просветили других светом Евангелия, светом Боговедения и светом Крещения, светом Христовой веры, светом своего учения, но они сами «ко Свету Неприступному востекли» (Минея 1987: 408), и ныне они находятся в «неприступном Свете» (Минея 1987: 409). В стихире на Славу поется: Кирилл и Мефодий просветители, «светильницы пресветлые», светом Богопознания просветившие страны словенские. Здесь составитель канона использовал библейский стилистический прием: слова, образованные от корня «свет», употребляются пять раз подряд — просветители, светильницы пресветлые, светом Богопознания просветившие. На второе место по числу упоминаний в службе выходит Премудрость. В одном из тропарей канона поется: Тот, кто показал в сонном видении лествицу Иакову, Тот обручил Кириллу деву Софию в чудесном сне, когда Кирилл был еще отроком. Эта дева была Премудрость, председящая Престолу (Минея 1987: 412). Как уже говорилось в 1862 году митрополит Московский Филарет составил первую песнь канона на Утрене (ирмос, четыре тропаря и Богородичен). Во втором тропаре о видении Софии говорится следующее: «Бог, Емуже ведома суть от века вся дела его, еще во отрочестве твоем, Богомудре Кирилле, назнамена тя быти Премудрости Его любителя и служителя, показав тебе во сне обручение твое с девою Софиею, София бо толкуется Премудрость» (Минея 1987: 411). Во втором тропаре 4-й песни читаем следующее: когда Кирилл был отдан в учение, он молился и «купно с внешним любомудрием Духа премудрости и страха Божия приял». Здесь видим традиционную для византийского богословия разделение учености на внешнее знание или любомудрие (философию) и внутреннюю мудрость, дарованную от Бога при содействии Святого Духа. Мудрость же внешняя есть «безумие перед Богом», как пишет апостол Павел (1Кор. 3: 19). Хотя, конечно, необходимость внешнего знания в святоотеческой традиции не отрицается, но оно должно занимать свое место и руководствоваться свышней премудростью, которая от Бога. Так и земная мудрость или внешнее знание очищаются и возвышаются. В первом тропаре 3-й песни второго канона Кирилл называется «Философом Богогласным»: «Лествица избрана явися, Философе Богогласне, вся бо учением на небо возводиши». Во всей службе именование Кирилла Философом встречается один раз, тогда как в Пространном житии, по нашим подсчетам, — 52 раза. Конечно, слово «философ» употребляется в службе в его христианском смысле: Кирилл не философ в традиционном смысле, не представитель внешнего знания, а любитель Божественной премудрости — он «любомудр», он «Богогласный» философ. Здесь опять надо отметить, что речь идет не просто о личной человеческой учености Константина Философа, хотя он действительно для того времени исключительно образованный человек в области «внешней премудрости». Речь здесь идет о Божией Премудрости, которая даруется свыше и в некотором смысле противостоит, мудрости мира сего. Причем, надо отметить, с этой Божественной мудростью Кирилл был обручен, согласно житию м службе, еще в семилетнем возрасте. Кирилл «от отрочества премудрость в сожитие себе избрал» (Минея 1987: 406–407). Итак, Кирилл мудр Божественной мудростью, которая дарована ему от Бога. Сама Премудрость — источник его мудрости и его личная покровительница. В общей сложности о Премудрости и мудрости в службе говорится 15 раз. На третьем место по числу упоминаний в богослужении выходит учительство, т.е. учительская деятельность Кирилла и Мефодия, их проповедь христианства среди других народов. 2-я стихира на Господи воззвах называет братьев «мудрыми учителями»: так соединяются темы мудрости и учительства. Другая стихира называет Кирилла «златоглаголивым» (Минея 1987: 406). В этой оценке ораторских способностей Кирилла можно видеть скрытую отсылку к Иоанну Златоусту, сравнение с ним. Кирилл и Мефодий «винограда Христова делатели», благодаря им, люди словенские «прицепились» как дикая маслина к благоплодному корню (Минея 1987: 406). Здесь имеется скрытая ссылка на ап. Павла, который пишет Римлянам: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями» (Рим. 11: 17). В другой стихире говорится, что они взыскали людей словенских, как «погибшую драхму». Это отсылка к притче о потерянной драхме из Евангелия от Луки: «Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15: 8–10). В тропаре, составленном в XIX веке, говорится: Кирилл и Мефодий — «апостолам единонравнии», «словенских стран учители». Далее в тропаре содержится просьба «все языки словенские утвердить в Православии и единомыслии» (Минея 1987: 409). Итак, Кирилл и Мефодий — Учители и Первоучители, о чем поется в службе 14 раз. На четвертом месте по числу упоминаний стоит равноапостольное достоинство Кирилла и Мефодия. По подвигу, который они совершили славянские учителя равны апостолам. Во 2-м тропаре шестой песни, обращенном к Мефодию, говорится: «Апостолом равну благодать Пречистаго Духа, отче, приим…». Итак, согласно тропарю, Мефодий равноапостольный не только потому, что проповедовал слово Божие, как апостол, но и потому, что приял благодать Святого Духа в той же мере, что и апостолы в день Пятидесятницы. То же самое, конечно, следует сказать и о Кирилле. В 1-м тропаре четвертой песни говорится, что Мефодий сотворил из храмины души селение Святого Духа. Здесь очевидна скрытая отсылка к апостолу Павлу, который обращался к Коринфянам: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?» (1Кор. 6: 19). Во второй стихире на стиховне говорится, что они «апостолом равнопрестольные». Здесь можно предположить, что составитель службы имеет в виду «равнопрестольность» в прямом смысле: они сядут рядом с апостолами на Страшном Суде на престолах (Минея 1987: 408). Из апостолов в службе упоминаются Варнава и Савл (Павел), а также Петр и Павел. Варнава и Савл упоминаются по следующему случаю. В Деяниях Апостолов рассказывается, как ученики Христовы в Антиохии молились и постились. И в это время Дух Святой сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их» (Деян. 13: 2). В 3-м тропаре шестой песни Кирилл и Мефодий сравниваются с этими апостолами: Кирилла и Мефодия также избрал Святой Дух, «выделил» из среды остальных и направил на дело, которое им было предназначено Богом. В 4-м тропаре четвертой песни о Кирилле читаем: «Обретеся новый Павел, премудре, весь мир Богови приобрете…». В стихире на Славу Кирилл называется вторым Павлом и учеником Петра: «О вторый Павле и учениче Петров, в его же граде изволи почити…». Здесь имеется в виду кончина Кирилла в Риме (Минея 1987: 425). Тема ап. Петра особенно сильно звучит в шестой песне. Во всех трех тропарях, в ирмосе и в Богородичне этой песни один припев: «Яко Петра, мя (ны), Управителю, спаси». Иногда говорят, что католики больше почитают ап. Петра, протестанты — Павла, а православные — Иоанна. Святой Кирилл, согласно службе, как бы соединил в себе всех трех апостолов: Петра, Павла и Иоанна. На следующем (пятом) месте стоит защита Кириллом и Мефодием учения о Пресвятой Троице. они — «Троицы Единосущной велегласные проповедники» (Минея 1987: 406). «Имиже» мы познали «Присносущную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа» (Минея 1987: 406–407). Кирилл — «Богословия труба златокованная, таинство Святыя Троицы подобием солнечным уяснивый и тем злохульные уста агарянские заградивый» (Минея 1987: 407). Седален после третьей песни канона развивает эту тему. В нем говорится о том, что Кирилл уподобил Троицу солнцу: Отец — солнечный круг, Сын — свет, Святой Дух — тепло (Минея 1987: 413). Солнце в качестве подобия Пресвятой Троицы использовали до Кирилла: Солнце, Свет, тепло суть одно, и разделить их невозможно. Это сравнение встречается в христианском богословии уже в IV веке у любимого Кириллом святителя Григория Богослова. (см.: Григорий 1993: 460, 462). При этом надо отметить, что святые братья не только защищают Троицу, но, как говорится об этом в службе, они сами просвещаются светом Пресвятой Троицы, наставляются ей, как надо защищать православное учение. 2-й кондак после шестой песни канона обращен к Мефодию, в нем подчеркивается, что Мефодий «зарями трисолнечными Божества освещаемь». Здесь встречаем еще одно уподобление Троицы солнцу: Троица — это три солнца в одном. Поэтому Кирилл и Мефодий смогли как «пастыри» Христовой Церкви научить «словесныя овцы веровати в Троицу Единосущную во Едином Божестве» (Минея 1987: 410) Особый интерес представляет 4-й тропарь шестой песни первого канона: «Ересем всем противен явился благодатию, Мефодие, достойными ответы, от Отца убо Параклита исходяща, а не от Сына, глаголя, но равенством Троицу чисте исповедая» (Минея 1987: 422). Важно отметить, что в этом тропаре указывается на православное отношение святого Мефодия к возникшему тогда богословскому спору об исхождении Святого Духа: «Благодатию Божиею ты против всех ересей дал достойный ответ, и Параклита (Духа Святаго) именовал исходящим от Отца, а не от Сына, научая воздавать Троице равную честь» (перевод А.В. Горского). Отметим, что такого эпизода нет в житиях Кирилла и Мефодия. О защите братьями православного учения о Пресвятой Троице в службе говорится в общей сложности 10 раз. О переводе Священного Писания на «словенский язык» упоминается 6 раз, затем 3 раза говорится об изобретении «писмен» и 2 раза — о борьбе против триязычия. В первом тропаре 8-й песни подчеркивается, что Кирилл принял сан священства и изобрел «письмена словенские» при озарении невещественным светом благодати и с помощью Духа Святого. Дверь Боговедения была закрыта, но она открылась «письмен славянских изобретением». Теперь, входя в эту дверь, люди словенские разумеют «таинство Благовестия Христова» (Минея 1987: 407). Благодаря Кириллу и Мефодию, поется далее, мы «свет благовестия Христова прияхом и познахом Предвечное Слово» (Минея 1987: 408). Здесь видим важный мотив: мы познали не просто буквы, грамоту, чтение, слово, но познали Слово, Логос, познали самого Сына Божия. А человеческое слово — только «осколок» этого Божественного Слова. Изобретение грамоты важно не только для перевода Священного Писания и для Богопознания, но и для богослужения. Седален по втором стихословии утверждает: радуются «роды словенские», ибо Кириллом и Мефодием «начатся на сроднем нам языце словенстем Литургия Божественная и все церковное служение совершатися», и теми (Кириллом и Мефодием) «неисчерпаемый кладезь воды, текущей в жизнь вечную, дадеся нам» (Минея 1987: 409). Это аллюзия на беседу Христа с самарянкой. В Евангелии от Иоанна читаем: «Иисус сказал ей (самарянке) в ответ: всякий пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4: 10–15). Седален после полиелея развивает следующую тему: словене от «глада Слова Божия» погибали, а Кирилл и Мефодий «манною учения Богомудрого» напитали их и «преложением Благовестия сына Громова на сродную им беседу, яко лучею солнечною» (Минея 1987: 410). Во втором тропаре 8-й песни говорится, что сначала они перевели «сына Громова неземные глаголы: в начале бе Слово», потом «Псалтырь сладкогласную». Согласно Пространному житию Кирилла, первая книга, которую он написал славянскими письменами, было Евангелие от Иоанна (Родник 1990: 122). Здесь, на наш взгляд, интересно выделение из четырех Евангелий одного, которое начинает Апракос. Отметим, что Православие, в частности, русское особенно почитает именно Иоанна Богослова. Нельзя не обратить внимания на то, что Иоанн Богослов больше других апостолов говорит о мудрости, в некотором смысле он отождествляет Слово и Мудрость, Логос и Софию. Иоанн больше других евангелистов показал и свою высокую богодухновенную мудрость. Интересно, что Кирилл и Мефодий, если понимать седален в прямом смысле, напитали славян «манною Евангелия» от Иоанна, а не всех четырех Евангелий. Таким образом, филологические заслуги Первоучителей также занимают немалое место в службе, но все же не могут сравниться в чисто количественном отношении с просветительской, учительской и апостольской деятельностью Кирилла и Мефодия. Обратим внимание на некоторые другие особенности службы. Несколько раз в ней подчеркивается, что Кирилл и Мефодий — «двоица», их не надо отделять друг от друга, иногда их называют «священная двоица» (Минея 1987: 415). Следует обратить внимание и на паримии: это паримии святительские. (1-я — Притч. гл. 3: 8; 2-я — Прем. гл. 10, 6, 9; 3-я — Прем. гл. 4, 6, 7 и 2). Главная тема этих паримий — мудрость, Премудрость. Они читаются всем святителям, но все же можно обратить внимание, что паримии обращены к святителям. По церковным правилам, Кириллу следовало бы читать паримии преподобнические, поскольку он скончался в сане иеромонаха. Богослужебные тексты, так же как некоторые фрески и иконы Кирилла, свидетельствуют о том, что он почитается и как святитель, и как преподобный. Это вызвано, с одной стороны, тем, что его брат — святитель, а служба им совершается общая, с другой стороны, подвиг Кирилла — апостольский, он — равноапостольный, что, конечно, гораздо ближе к святителю, чем к преподобному. Здесь происходит некоторое отождествление апостольского и святительского подвига, апостола и святителя. Как Кирилл называется святителем, не будучи им, так Мефодий называется «преподобным» (Минея 1987: 410), хотя это заметное понижение в «чине», ведь он прежде всего святитель. Но, конечно, Мефодий прошел весь монашеский путь, поэтому в обратной перспективе он — преподобный. В церковной традиции это не единственный случай: например, святитель Василий Великий и составитель Великого канона святитель Андрей Критский в некоторых богослужебных текстах также называются «преподобными». Кирилл и Мефодий уподобляются в службе не только апостолам, но и ветхозаветным праведникам: отрокам иудейским в пещи огненной, патриарху Аврааму, пророкам Илие, Давиду, Моисею. Обычно сопоставления проводятся в следующем ключе: как Авраам переселился в землю ханаанскую, так и Кирилл пошел в землю чужую для проповеди истинной веры (Минея 1987: 423). Мефодий в 4-м тропаре восьмой песни сравнивается с пророком Илией («другий равный Илия»), поскольку показывает такое же «рвение» в защите истинной веры; он сопоставляется с Моисеем, поскольку в проповеди показывает такую же кротость, и, наконец, с Давидом, поскольку, как царь и пророк, показывает такое же незлобие по отношению к врагам. В 1-м тропаре седьмой песни первого канона говорится, что Мефодий с Кириллом на проповеди были, как отроки иудейские «огнем нечестия неопаляемы». Тема ирмосов седьмой и восьмой песен всегда посвящена трем отрокам, которых персидский царь бросил в горящую печь, но явился Ангел и сделал в ней как бы влажный ветер, и так отроки остались живы в огне (см.: Дан. 3: 19–51). В этой песне не только ирмос, но и тропарь посвящен данной теме. Если отроки иудейские были попаляемы вещественным огнем, то просветители словенские — «огнем нечестия», но так же, как отроки, с помощью ангельской они вышли невредимыми из этого огня. Упоминание о Кирилле и Мефодии введено даже в Богородичен девятой песни канона. Это редчайший, если не исключительный случай в литургическом творчестве, поскольку Богородичен, как явствует из его названия, всегда посвящен прославлению Богородицы. В службе Кириллу и Мефодию упоминаются некоторые биографические факты. Например, в 1-м тропаре шестой песни говорится, что естество Божие есть как пучина морская, непостижимая для ума, и те, кто без Евангелия хочет переплыть ее, потопляются. Согласно житию, это сказал Кирилл в диспуте с «агарянами». Или в следующем тропаре читаем, что «агаряне» тайно подложили яд Кириллу, но он не повредил святому. Во 2-м тропаре седьмой песни говорится, что премудрый Кирилл победил в споре иудеев и сарацин, страну Хазарскую просветил крещением, узников освободил, соленую воду превратил в сладкую. Все это заимствовано из житий святых. В заключение отметим, что в службе довольно мало географических примет. Всего по одному разу упоминается Моравия, Рим. Из народов упоминаются хазары, сарацины, люди словенские, но чаще употребляются общие названия: народы, языки, роды. Валерий Лепахинhttp://www.pravoslavie.ru/put/46730.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #21 : 24 Мая 2013, 10:37:04 » |
|
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на торжественной церемонии открытия Дня славянской письменности и культуры24 мая 2011 г 24 мая 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественной церемонии открытия Дня славянской письменности и культуры на Васильевском спуске в Москве. 24 мая 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественной церемонии открытия Дня славянской письменности и культуры на Васильевском спуске в Москве.Уважаемые высокие руководители государства и города! Дорогие братья и сестры! Я хотел бы сердечно всех вас поздравить с Днем славянской письменности и культуры — замечательным церковно-государственным праздником, в котором мы вспоминаем прошлое. Но ведь праздники существуют не только для того, чтобы помнить прошлое, но и для того, чтобы иметь ясное понимание того, куда мы идем в будущее — как народ, как страна. Совсем недавно рядом с домом, где я живу, упала огромная сосна. Она весила несколько десятков тонн, выглядела так красиво — мощное дерево, которому было больше двухсот лет. Когда эту сосну стали пилить, оказалось, что ствол очень крепкий, сильный, жизнеспособный; и понять долго не могли, почему же сосна упала — без всякого ветра, урагана. А потом оказалось, что всего на полметра от земли сгнил ствол и отделил дерево от корней. И это могучее дерево, ровесник Наполеона, рухнуло, потому что не было связи с корнями. Вот это образ того, что происходит с человеком, с семьей, с народом, с государством, если разрушается корневая система. Не нужно никакого ветра, никаких землетрясений, никаких войн: и великая страна может рухнуть за несколько дней, и мы являемся свидетелями того, как это произошло в 1990-е годы. Для того чтобы не рухнуть — человеку, личности, чтобы не разделиться семье, чтобы сохранить народ, государство, —нужно сохранять не только плодоносящие ветви и собирать плоды, не только любоваться мощным стволом древа, но и помнить и заботиться о корнях, потому что корни удерживают дерево. Корни — это фундамент, в том числе жизни человека, жизни государства. Мы сегодня празднуем день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — тех, кто, собственно говоря, и создал эту корневую систему нашей нации. Они пришли в славянские страны, чтобы проповедовать Христа. Но в отличие от других миссионеров, которые говорили по-гречески или даже по-латински, они, будучи просвещенными греками, поняли, что слово Божие нужно непременно передавать людям на их языке. А ведь письменности не было — люди только говорили по-славянски! Ни грамматики, ни даже азбуки не было. И святые равноапостольные братья стали создавать алфавит, а вскоре перевели на славянский язык самую важную книгу — Евангелие. Вот там и есть наш корень. И если мы не будем помнить об этих корнях, если значительная часть населения России никогда в жизни не откроет Евангелие и не подумает над тем, что там сказано Самим Богом, — навряд ли мы сумеем сохранить наше могучее древо нерушимым. Но святые равноапостольные братья сделали нечто большее. Они не только проповедовали Христа, но они вместе с этой проповедью стали создавать письменность, а значит, основы культуры. А культура, наряду с Церковью, есть то ложе, которое, если хотите, переносит во времени эту корневую силу — некий геном, некое зерно, из которого вырастает древо нации. В этом сила культуры, и в этом же сила церковной традиции, потому что без перенесения духовного и культурного генома сквозь поколения, столетия и тысячелетия не может быть единого народа, связанного одной историей, одной системой ценностей и одним языком. Поэтому, празднуя память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы, конечно, обращаемся в будущее. Мы обращаемся с надеждой, что никакие искушения, испытания, соблазны, никакие новомодные идеи, пытающиеся разрушить нашу национальную корневую ценностную систему, неспособны будут это сделать. И сегодня мое особое слово к молодежи. Не связывайте с этим прошлым нечто скучное, несовременное, неудобоваримое для сознания современного человека. Не отмахивайтесь от того, что есть и ваша корневая система. И чтобы быть сильными, чтобы построить мирную, справедливую, счастливую жизнь, помните о том, что без прошлого, которое живет в настоящем, не может быть будущего. Я всех вас поздравляю с великим для нашего Отечества и для всего славянского мира праздником славянской письменности и культуры, с днем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ну, а всех тех, кто заканчивает сегодня учебные заведения, я особенно поздравляю с окончанием учебного года. И этими словами о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии я от вcего сердца напутствую всю молодежь нашу — и России, и Украины, и Белоруссии, и Молдовы, и прочих стран, которые хранят в себе великое наследие Кирилла и Мефодия. С праздником вас поздравляю! Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси http://www.pravoslavie.ru/news/46700.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #22 : 24 Мая 2013, 10:40:58 » |
|
Кирилл и Мефодий – не просто имена из учебника В России сегодня отмечают в день памяти святых братьев-просветителей славян Кирилла и Мефодия, к которому традиционно приурочено всероссийское празднование Дней славянской письменности и культуры. О важности праздника и его культурно-исторических корнях РИА Новости рассказал глава синодального Информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда. Беседовала Ольга Большакова. Владимир Романович Легойда- На ваш взгляд, понимает ли сегодня общество, какой праздник Россия отмечает 24 мая? Владимир Романович Легойда- На ваш взгляд, понимает ли сегодня общество, какой праздник Россия отмечает 24 мая?- Как и любое другое, наше общество состоит из разных людей. Есть те, кто хорошо понимает, что это за праздник, есть те, кто просто знает о нем, и есть те, кто о Днях славянской письменности и культуры не знает совсем. Наша задача состоит в том числе и в донесении до последней категории людей знания о корнях этого праздника, в котором находятся истоки нашей культуры, национальной идентичности. Именно знание, потому что без знания не будет и понимания. В Церкви день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечают с XI века. А российское общество Дни славянской письменности и культуры празднует уже около 20 лет. Это тот самый случай, когда житие святых должно широко распространяться и изучаться. Очень важно, чтобы особенно молодежь понимала, что Кирилл и Мефодий - это не просто имена из учебника. Это люди, которые помогли нам определиться со взглядами на добро и зло, жизнь и смерть. Благодаря им состоялась встреча христианства и языка, и славяне получили возможность воспринимать Евангелие и богослужение на своем родном языке. Однако было бы большой ошибкой воспринимать этот праздник как нечто связанное только с прошлым. Это не музейный праздник, это не нечто законсервированное и занесенное в скрижали истории. Это событие связано с нашим языком и нашим нравственным сознанием. Патриарх Кирилл на заседании организационного комитета по подготовке празднования Дня славянской письменности и культуры сказал, что праздник Дней славянской письменности и культуры нужно сделать одним из любимых праздников россиян. - Каким образом этого можно достичь?- Необходимо больше обращаться к молодежи. На заседании оргкомитета по подготовке празднования Дня славянской письменности и культуры министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев высказал предложение совместить эту дату с «последним звонком» в школах. Замечательная идея. А начать можно и с изучения жития святых Кирилла и Мефодия, которое драматично, интересно и даже в какой-то степени обладает элементами детектива. Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами, – помочь молодежи понять, что это были живые люди, деятельность которых напрямую связана с нашими представлениями о мире. Ведь если бы в 988 году князь Владимир не принял православие и не крестил Русь, наш мир был бы совершенно другим. Если бы солунские братья Кирилл и Мефодий столетием ранее не перевели богослужебные книги и Евангелие на славянский язык, мы не были бы теми, кто мы есть сейчас. Если хотите, мы связаны с этими людьми культурной пуповиной. Их подвиг связан с развитием нашего языка, и тем, в каком виде он существует сегодня. - В Дни славянской письменности и культуры проходят как богослужения, так и светские культурные мероприятия. На ваш взгляд, каким должно быть соотношение между "светским" и "церковным" в этот день, и соблюден ли баланс сегодня?- Мне кажется, не нужно проводить границу между светским и церковным аспектами этого праздника – между ними нет никакого противоречия, поэтому и в установлении какого-то специального баланса необходимости нет. Ведь Дни славянской письменности – это не только церковные, но и общественно значимые торжества. Это повод для радости, чувства гордости за свою национальную культуру для всех сограждан – и верующих, и убежденных атеистов. Здесь никто никому не мешает, напротив – каждому предложена возможность для праздника, условно говоря, на его личный вкус. Православные верующие могут начать праздновать пораньше – придя на богослужение, приняв участие в крестном ходе, а все остальные, по желанию, - посетить только культурные мероприятия. А очень многие хотят и помолиться вместе со всей Церковью, и концерт послушать. Никто никого и ничего здесь не лишает, так что обозначать какой-то «баланс» смысла не имеет. - В прошлом году многие москвичи были недовольны, что из-за праздничного шествия 24 мая основные магистрали столицы были перекрыты, и движение в центре было остановлено. Чего ждать в этом году?- В этом году массового шествия не запланировано. Крестный ход пройдет от Успенского собора Кремля через ворота Спасской башни до Васильевского спуска. Думаю, что мероприятия по ограничению дорожного движения при этом будут минимальными. Лично мне странно слышать, что ограничение движения во время массовых праздников, таких как День победы, когда мы демонстрируем, что у нас есть историческая память и отдаем дань уважения людям, пожертвовавшим собой ради нашей жизни, вызывает у кого-то недовольство. Если мы не можем пожертвовать частичкой личного комфорта ради их памяти, то к нам как к обществу есть вопросы. Конечно, в любом случае ограничения движения во время крупных праздников должны быть максимально корректными, и людей необходимо оповещать об этом и предлагать альтернативные маршруты. - Россия - страна многоконфессиональная. Как другие конфессии относятся к такому массовому празднованию Дней славянской письменности и культуры?- В ходе церемонии открытия Дней славянской письменности и культуры ожидается выступление представителей других религиозных конфессий России, и сам факт их участия говорит о многом. Повторюсь, что речь идет не о церковном событии, а о празднике, который связан со становлением нашей культуры, и представители других религий не могут не разделять его. Владимир Легойда http://www.pravoslavie.ru/smi/46692.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #23 : 24 Мая 2013, 10:47:58 » |
|
Славянский славный день Подвиг святых Кирилла и Мефодия — создание в 863 году славянской азбуки — дало нам не только письменность, но и возможность совершать богослужения и читать Священное Писание на родном языке. Само становление русской государственности совпало с рождением славянской азбуки. Кирилло-Мефодиевские торжества в России и Москве второй половины XIX века можно отчасти сравнить с пушкинскими торжествами — они были таким же осмыслением истоков национального самосознания и русской идеи в свете подвига солунских братьев. Первое торжество в честь Кирилла и Мефодия совпало с празднованием тысячелетия России в 1862 году, поскольку на следующий 1863 год отмечалось тысячелетие славянской азбуки. Подобное сочетание было очень символично и свидетельствовало о единстве Церкви, нации и языка. Вполне естественно, что в предзнаменование государственного праздника вспомнили и об «апостолах славянских», поскольку, по словам М.Н.Каткова, язык — это и есть народ. Праздник их особенно «продвигали» славянофилы. Преддверие чествования солунских братьев ознаменовалось своеобразным чудом — в 1855 году историк М.Н.Погодин преподнес в дар домовому храму Московского университете в дар частицу святых мощей Кирилла, некогда подаренную ему в Праге — там и прошли первые в России Кирилло-Мефодиевские торжества. Почин положила Церковь, и этот первый праздник был исключительно церковным. В XVII веке в связи с правкой русских богослужебных книг по греческим образцам древнейшая служба первоучителям не вошла в состав официального печатного Месяцеслова. Оттого в начале 1860 года епископ Смоленский Антоний (Амфитеатров) обратился к обер-прокурору Святейшего синода с прошением, что память святых Кирилла и Мефодия, положенная Церковью на 11 мая, должна чтиться более подобающим образом, особенно если учесть их древние чествования на Руси. Он предложил составить новую торжественную службу и приурочить ее совершение в храмах к 1000-летию России и просвещения славянских народов. Служба, составленная владыкой Антонием, была утверждена и включена в богослужебные книги под 11 мая и разослана по русским храмам. «Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки словенския утвердити в православии и единомыслии, умирити мир и спасти душы нашя».Впервые эта служба была совершена в России 11 мая 1862 года. В Москве же первые торжества в честь Кирилла и Мефодия состоялись в домовом храме Московского университета — на стыке веры и науки, ибо слово, богослужение и просвещение взаимосвязаны. На праздничной литургии читался древний канон св. Кириллу и Мефодию, а по ее окончании был совершен молебен. Затем по предложению профессуры был открыт сбор на сооружение иконы Кирилла и Мефодия для домового университетского храма. Первые торжества прошли скромно, но положили начало возвращения памяти о славянских апостолах в современном обществе и почин возрождения славянской идеи под эгидой России, а главное — осмысления национального самосознания в лоне Православной Церкви, что было своего рода противостоянием воинствующему либерализму и нигилизму. И.С.Аксаков назвал этот праздник «залогом будущего духовного воссоединения всех славян, и звеном, связующим разрозненных братьев». Молва о празднестве 11 мая в Москве разнесется по всем славянским странам радостною вестью будущего освобождения; потому что невозможно духовное возрождение славян без участия многомиллионного русского племени в общем подвиге славянского самосознания». Так пусть же этот праздник в будущем распространится от Успенского собора до сельской церкви в самом глухом захолустье. Духовенство призывало в будущем превратить праздник Кирилла и Мефодия в праздник народного просвещения, ибо святые братья были народными учителями, и прославить их покровителями народного образования . А пока решили, что лучшая память о них в современности — продолжение их дела и в просвещении, и в развитии славянской речи. В том же 1862 году Александр II указал учредить Кирилло-Мефодиевские стипендии — по четыре именных стипендии на каждый русский университет. На великом памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде были помещены скульптуры Кирилла и Мефодия. В 1863 году грянул 1000-летний юбилей славянского письма, отмеченный праздничной литургией в кремлевском Успенском соборе. Незадолго до того Святейший синод принял указ, которым 11 мая вновь официально объявлялось днем ежегодного церковного празднования памяти солунских братьев «в память совершения тысячелетия от первоначального освещения нашего отечественного языка Евангелием и верою Христовою». Само время располагало к подобным торжествам и двигало Россию, да и весь славянский мир к переосмыслению собственного бытия в свете миссии славянских апостолов, ибо юбилейные даты двигались с поразительной скоростью. Уже в 1869 году отмечалось новое тысячелетие: со дня кончины cв. Кирилла. Накануне случилось чудо: двумя годами раньше наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Леонид во время путешествия на Афон открыл там древнейшее иконное изображение Кирилла и Мефодия. С него написали образ, и привезли в Россию. Теперь праздник отмечался не только в храмах, а принял характер гражданского торжества. В тот день 14 февраля в кремлевском Чудовом монастыре и многих московских церквях были совершены праздничные богослужения, а затем последовали общественные церемонии. В Московском университете состоялось открытое собрание Славянского благотворительного комитета, на котором было объявлено об учреждении Кирилловской премии для учащейся молодежи, «дабы поощрить молодых людей к занятиям славянством», которое тогда особенным успехом не пользовалось. А затем директор Московского Публичного и Румянцевского музеев В.А.Дашков дал обещание устроить при университетском музее храм Кирилла и Мефодия в архитектурном стиле Х века (на момент крещения Руси) и с приделом во имя св. князя Владимира Великого. Историческая ситуация была поистине удивительной. С одной стороны — великие юбилеи, ознаменованные всплеском православной, национальной и общественной мысли, события на Балканах кануна русско-турецкой войны располагали к размышлениям об истинной миссии солунских братьев и их наследия. А с другой — их памяти никак не удавалось перерасти церковный и научный уровень и остаться общенациональной темой. После окончания юбилеев эйфория спадала, память утихала, все начинания и замыслы постигало забвение, и славянская миссия вместе с наследством Кирилла и Мефодия по-прежнему оставалась уделом для церковной и узко-научной среды. 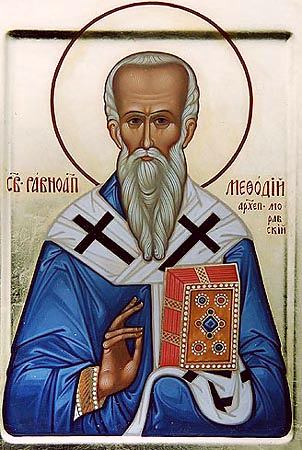 Однако после русско-турецкой войны, освобождения Болгарии и убийства Александра Освободителя, когда пришел третий великий юбилей 6 апреля 1885 года — 1000-летие кончины Мефодия, празднику придали характер государственного и общеславянского торжества, в котором миссия солунских братьев осмыслялась как всеславянская и исключительно в лоне православия. Ситуация отчасти диктовалась тем, что праздник проводила и католическая Церковь на Велеградских торжествах, для славян-католиков, где до раскола проповедовали Кирилл и Мефодий. В России многие сочли это кощунством — чтить память святого Мефодия мессой на латыни. К тому же в католической среде тоже были «мечтания» об объединении западного и восточного славянства под своей эгидой в противовес аналогичному стремлению России. Создание солунскими братьями славянского православного богослужения — это и пытались подчеркнуть на торжествах в России. Ведь до Кирилла и Мефодия языками достойными для совершения богослужений считались только древнегреческий, латынь и древнееврейский. (Как объясняется, на этих языках по приказу Понтия Пилата была сделана надпись на Голгофском кресте Господа.) Теперь за подготовку юбилея взялся лично обер-прокурор Святейшего синода К.П.Победоносцев, считавший необходимым устроить грандиозное православное торжество. Он писал Александру III: Думаю, что это торжество не останется без важных последствий и утвердит в народном сознании (что в особенности важно на окраинах) чувство национальности и понятие о просвещении, связанном с Церковью.Победоносцев просил государя почтить торжество своим присутствием именно для придания празднику должного официального статуса — не только церковного, но и государственного, национального, народного. 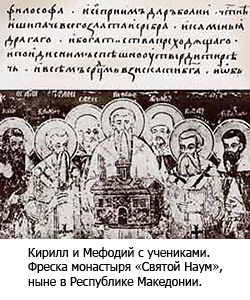 В итоге празднества 1885 года стали апогеем в истории почитания памяти славянских апостолов. Подготовка была основательной и мудрой. Прежде всего были отпечатаны жития святых братьев на доступном русском языке, которые бесплатно раздавали народу, научные и популярные биографии, даже древние церковные службы св. Кириллу и Мефодию. Во-вторых, велась широчайшая просветительская кампания. «Московские ведомости» отметились мудрейшей статьей М.Н.Каткова, в которой он, рассуждая о миссии славянских апостолов и ее значении для мира и России, призвал в числе прочего беречь язык, очищать его от занесенных «чудовищных форм» и не забывать, что славянский язык и есть русский, только в его древнейшем состоянии. Отсюда для перевода Священного Писания со старославянского на русский для народа требуется сохранить его «склад», только заменяя «неудобопонятное понятным», а не переводить «Отче наш» как «Отец наш» или вместо Господи — Господин. То есть не передавать «предметы священные в форме вседневного говора». (Катков редко когда теряет чувство современности). Заслуга же солунских братьев — фактически рождение русского народа. Они возвели новый пришедший в мир народ к исторической жизни, они создали новую в мире силу которой суждено свое назначение в домостроительстве Промысла, которой при возникшем разделении Церквей суждено пребыть на Востоке... если бы Кирилл и Мефодий не освятили наш первобытный язык, не возвели бы наше слово в Богослужебный орган, не осталось бы места и не было бы сосуда для Восточно-Православной Церкви, некому было бы исполнять дело ее судеб.Торжества в России прошли с участием императорской четы и с зарубежных делегаций из славянских стран. 6 апреля перед праздничным богослужением в Исаакиевском соборе состоялась хиротония архимандрита Митрофана (Бана), поставляемого в митрополита Черногорского. Победоносцев просил государя высочайше пожаловать ему архиерейское облачение наподобие тех, в которые облачались русские архиереи на коронацию. А затем состоялась литургия в присутствии государя, обер-прокурор Святейшего синода, министров и славянских депутаций, и зачитано праздничное послание Святейшего Синода. Благодатию Божиею чрез них нам ниспослано Благовестие Христово, чрез них мы познали церковную красоту и приведены были от тьмы к свету и от смерти к животу вечномуНа другой день состоялись гражданские празднества. Вечером прошло торжественное собрание Славянского благотворительного общества под председательством П.П.Дурново. Повторялись все те же «московитские» идеи о единстве славянского племени, «прочное начало которому, тысячу лет назад, положили святые Кирилл и Мефодий». Были и неожиданные свежие мысли. Например, В.И.Ламанский очень поддерживал идею славян-католиков о восстановлении самостоятельного Моравского архиепископата (св. Мефодий занимал пост архиепископа Моравии и Паннонии) со славянскими диоцезами и о возврате латинского христианства к апостольским преданиям и обычаям древней римской Церкви. Именно в этом он видел и начало настоящего примирения, и разрешения многих славянских распрей. Москва чествовала по-своему, запруженная тысячами богомольцев, окруживших Кремль, Красную площадь и прилегающие окрестности. Литургию в храме Христа Спасителя совершил епископ Таврический Алексий, где, кстати, присутствовали по нескольку учеников из каждой школы — то есть идея о покровительстве Кирилла и Мефодия народному образованию начала понемногу сбываться. Оттуда крестный ход отправился в Кремль. Там в Успенском соборе после окончания литургии начался грандиозный крестный ход под звон всех кремлевских колоколов. Зрелище было величественное — колыхались сотни хоругвей, гудели колокола, сверкали золотые облачения, оглашалась тысячеустная молитва. Праздничная процессия через Спасские ворота вышла на Красную площадь, где была установлена икона свв. Кирилла и Мефодия, прошла до Никольских ворот и через них вернулась в Кремль. Далее начались гражданские празднества. В Московском университете прошло торжественное собрание, открывшееся пением «Днесь благодать Святаго Духа нас собра». В катковском лицее цесаревича Николая после литургии в домовой церкви юбилейную речь произнёс В.В.Назаревский, выдающийся историк Москвы. В Московской духовной семинарии были исполнены гимны славянским апостолам, на музыку П.И.Чайковского и священника В.Ф.Старорусского. Митрополит Иоанникий предложил почтить память славянских первоучителей учреждением «Братства для вспомоществования церковно-приходским училищам». Братство Кирилла и Мефодия было создано и существовало до 1917 года, и его не надо путать с костомаровским одноименным обществом. Все в тот день заботились и народном празднике просвещения — для простых москвичей были устроены лекции в библиотеках и читальнях. И еще звучала вполне закономерная мысль, обозначенная в статье Каткова и в созвучной ему речи иркутского кафедрального протоиерея Афанасия Виноградова по поводу католического и православного празднования. Можно ли считать их едиными и равноправными? Славяне-католики, «чехи, моравы, словены и хорваты справедливо празднуют потому, что миссионерская деятельность братьев происходила в их странах». Однако западные славяне отпали от православного вероучения святых братьев, (которые проповедовали до раскола Церквей), введенного ими чина богослужения и отвергли плоды их просветительной деятельности. В итоге служба на Велеградских торжествах идет на латыни. По выражению Каткова, русский же народ «положил их дело во главу угла всего своего здания — как церковного, так и государственного». Восточные славяне сохранили учение и богослужение в первозданном виде, и хотя славянские наречия уже значительно отдалились одно от другого, но «язык Церкви доселе остаётся у них общим» — в этом и кроется залог духовного единства славянского мира, «под нравственным воздействием русского народа, как старшего члена этой семьи». Таким образом, Победоносцев, по мысли современного исследователя А.Поповкина, взял своеобразный реванш за Берлинский конгресс, на котором были дипломатически провалены достижения русско-турецкой войны. Теперь же Россия оказалась во главе славянских торжеств, претендуя на «статус имперского центра славянской цивилизации». Император остался доволен.  А потом все снова пошло на спад. Предреволюционное раздираемое политическим распрями полулиберальное-полуреволюционное русское общество оказалось не способно к глубокому постижению славянской миссии, да и исторические события этому не благоприятствовали. Провести и посетить разовые торжества оказалось легче, чем духовно присоединиться к ним. Юбилейные «задумки» исполняли долго и с трудом, а то и не выполняли. По данным историка В.Ф.Козлова на месте около Сенатской башни, где прежде едва не появился Исторический музей, собирались построить московскую церковь Кирилла и Мефодия, но в итоге построили только мавзолей. Энциклопедия славянской филологии увидела свет спустя четверть века после Мефодиевских торжеств, но только в виде первого тома. Только идея о покровительстве святых братьев народному просвещению набирала силу. В 1887 году домовая церковь во имя их была освящена в Земледельческой школе на Смоленском бульваре (позднее — Военно-ветеринарная академия), а в 1911 году — в церкви-школе близ Даниловского кладбища. В начале XX века Синод указал совершать 11 (24) мая праздничное богослужение в домовых храмах при всех учебных заведениях духовного ведомства с освобождением учащихся от занятий. Нить истории тянется. В наше время праздник создателям русского слова стал государственным. В 1992 году был установлен чудесный памятник Кириллу и Мефодию с неугасимой лампадой на Славянской площади, счастливо переименованной из площади Ногина. Памятник как символ возрождения России и как все тот же залог славянского единства. Напомним слова из Повести временных лет: «да аще хто хулить Словеньскую грамоту да будеть отлучен от церкве». Елена Лебедеваhttp://www.pravoslavie.ru/smi/38313.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #24 : 25 Мая 2013, 09:57:10 » |
|
Заветы святых Кирилла и МефодияСегодня, 11 мая по старому стилю, мы празднуем память св. равноапостольных Кирила и Мефодия. По Промыслу Божию этот день совпадает с днем рождения Константинополя, основанного св. равноапостольным императором Константином, чью память мы особенно чтим в этом году, ибо это год юбилея Миланского эдикта (313 г.), даровавшего свободу Церкви. Этот год — юбилейный и в другом отношении: мы празднуем 1150 лет со дня начала кирилло-мефодиевской миссии, точнее, с момента прихода святых братьев в Моравию.  Солунские святые Кирилл и Мефодий передают славянам азбуку Солунские святые Кирилл и Мефодий передают славянам азбукуЧто значат для нас святые братья Кирилл и Мефодий, помимо того, что они создали нашу азбуку? Какие заветы они нам оставили? Первый завет — завет веры. Как была изобретена первая славянская азбука? Император Михаил ΙΙΙ повелел св. Константину-Кириллу идти на проповедь в Моравию, не дав тому ни алфавита, ни переводов книг на славянский язык. Братья наложили на себя пост, стали на молитву и через 40 дней обрели азбуку. Изобретение славянского алфавита современники восприняли как самое настоящее чудо, подобное Пятидесятнице. По наблюдению черноризца Храбра, если греческий алфавит был собран за тысячелетие и насчитывал тридцать знаков, то славянский за краткое время дошел до тридцати восьми букв. Именно вера помогала братьям совершать их нелегкое служение, посрамлять трехъязычную ересь, проповедовать необразованным славянам, преодолевать недоверие римского клира, а святому Мефодию — терпеть страшную тяжесть тюремного заключения (871-873 гг.), издевательства и пытки. Эта вера без преувеличения отверзала морские глубины. Благодаря горячей соборной молитве святой Константин-Кирилл смог обрести на дне морском мощи священномученика Климента Римского в Херсонесе (860 г.). Эта вера глубоко христоцентрична. Удивительна любовь ко Христу, сквозящая во всех творениях святых братьев, в том числе и «Прогласе к Евангелию»: Как предрекли пророки, жившие прежде, Христос грядет, чтобы собрать народы, Ибо есть Он свет миру всему. Предсказали они: «Слепые прозреют, Глухие же услышат слово книжное И познают Бога, как и достоит». Эта вера мерит все страшной и дивной реальностью Страшного Суда: Матфей, Лука, Марк и Иоанн Поучают народ, говоря: «Если хотите красоты душам своим, Смотрите, любите и радуйтесь. Если же хотите тьму грехов отвергнуть И мира этого тлен отмести, Если хотите обрести жизнь райскую И избежать огня пылающего — Внемлите ныне разумом своим»[1]. Второй завет — завет любви. Только любовь к Богу и людям заставила их идти в далекую, варварскую для них страну и подвергаться скорбям, непониманию, унижению. Удивительная скорбь сквозит в каноне великомученику Димитрию, написанном святым Мефодием: «Почему, о мудрый Димитрие, Одни мы, нищие рабы твои, оказались Лишенными красоты твоей и славы? Ради любви к Создателю, о блаженный, Бродим мы по чужим городам и землям, Чтоб посрамлять триязычных еретиков И принимать муки от суровых воинов». И эта любовь выражалась не только в заботе о душе, но и о всем человеке. Когда святые братья проповедовали в Паннонском княжестве князя Коцела, то единственное благодеяние, которое они от него приняли, — освобождение всех взятых им пленников. Третий завет — славянское единство: «Слушай, славянский народ! Слушайте Слово, ибо оно — от Бога. Слово, что питает души человеческие, Слово, что укрепляет сердца и умы». Святые братья не делили славянский мир на болгар, сербов, русских и т. д. Для них это был новоизбранный народ Божий, летящий ко Христу, всецело желающий называться Христовым. Святые Константин-Кирилл и Мефодий создали Pax Orthodoxa[2]. Их идеал — единая православная ойкумена, православная вселенная, где православные народы (точнее, единый народ Божий) живут в мире и любви. Четвертый завет — любовь к Слову. Прежде всего, к Логосу, затем — к слову Божию, животворящему, укрепляющему, питающему душу человеческую: И еще одну притчу, мудрую зело, Скажем мы из человеколюбия тем, Кто не знает веры этой правой, Чтобы люди росли Божьим ростом. Как семена, что падают на ниву. Так и в сердцах человеческих Под дождем Божьих букв Пусть взрастает Божий плод. Удивителен этот образ, тесно связанный и с притчей о Сеятеле (Мф.13:2-6) и с животворящем дождем, низведенным пророком Илиею на землю. Это и слова из Великого канона св. Андрея Критского: «Яко помазание и питие, Слове, живоносная Твоя словеса». Но самое главное здесь — призыв людям расти Божиим ростом. Слово для святого равноапостольного Константина-Кирилла — не только пища и питие, но и победное оружие в борьбе с дьяволом, ересью, ложью и самою смертью: «Если же вы врага ненавидите И хотите встать против него твердо, Распахните с прилежанием разуму двери, Крепко возьмите оружие иное, Чем куют книги Господни, Книзу склоняя голову лукавому. И тем, кто изучит буквы, Мудрость Христос дарует, И души ваши укрепят Апостолы со всеми пророками. Повторяющие слова их Способны будут врага погубить, Принеся победу Богу Доброму, Избежав плотского тлена и гниения». Именно поэтом столь жизненен призыв святых братьев к учению книжному: «Или уста, не ощущая сладости, Бесчувственным не делают ли человека? Еще более того душа бескнижная В мертвеца его превращает. Обо всем этом, братия, размышляя, Говорим мы, что необходим свет, Всех людей отучивший бы От жизни скотской и от похоти. А если ум твой не просветлен, На чужом языке звучит тебе Слово, Как звон медного колокола». Наконец, завет христианского просвещения и всемирной проповеди, и во имя их — духовной борьбы — вот что еще нам оставили святые равноапостольные братья: Ведь жизнь мирская кратка, как сон. Не падая, а крепко встав, Явятся пред Богом храбрецами, Стоящими одесную Божьего престола, Когда станет Он огнем судить народы. Возрадуются с ангелами во веки веков, Вечно славя Бога Милостивого, Всегда песнопениями книжными Бога воспевая Человеколюбивого, Ибо подобает Ему всяческая слава. Честь же и хвала Божьему Сыну С Отцом и со Святым Духом Во веки веков от всей твари. Аминь. Диакон Владимир Василик______________________ [1] Здесь и далее цитируется Проглас к Евангелию. [2] Pax Orthodoxa — православный мир, выражение Рикардо Пиккио. http://www.pravoslavie.ru/put/61731.htm
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Александр Васильевич
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 109084
Вероисповедание: православный христианин

 Православный, Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #25 : 02 Июня 2013, 05:23:42 » |
|
Фильм "Код Кирилла. Рождение цивилизации" Фильм рассказывает о появлении славянской азбуки кириллицы и о том, как Россия заняла место лидера восточно-христианской кириллической цивилизации. Великие святые Кирилл и Мефодий создали универсальный принцип — каждый народ достоин того, чтобы узнать Слово Божие на своем родном языке. И сейчас этот принцип продолжает воплощаться в жизнь. В фильме рассказывается о том, как на базе кириллицы создаются азбуки для прежде бесписьменных языков народов России. А русский православный священник — современный преемник Кирилла и Мефодия — приезжает на собаках в юрты и учит камчатских коряков читать Евангелие, напечатанное кириллицей по-корякски. А ведь были годы, когда судьба русской азбуки, казалось, висела на волоске. В 20-е годы прошлого века большевики вынашивали планы замены кириллического алфавита латиницей. Активно поддерживал этот проект Луначарский. Кириллицу тогда считали реакционным царским алфавитом, который мешает мировой революции. Но главной целью большевиков было, конечно, отформатировать по-своему духовную память народа, лишить будущие поколения возможности читать все то, что накоплено в ходе многовековой российской истории. Что спасло тогда русскую азбуку? Как получилось, что среди всех народов Европы только славяне получили много веков назад национальный алфавит? Как отразилось на национальном самосознании всех славян то, что Библию они узнали на своем родном языке, а не на латыни или греческом? Как Россия спасла своих братьев по кириллице от 400-летнего османского ига? Какая борьба вокруг кириллического алфавита разворачиваются в современном мире? Перейдет ли Украина на латинский алфавит? Съемки фильма проходили в России, Греции, Стамбуле, Риме, в Крыму, в Чехии, в Хорватии, на Камчатке. В фильме принимают участие: митрополит Иларион, член-корреспондент РАН Владимир Алпатов, член-корреспондент РАН Борис Флоря, профессор МГУ Андрей Кибрик. Режиссер фильма Артем Серпов. См.фильм по нижеприведённым ссылкам:https://www.youtube.com/watch?v=IdXNtqzynNchttps://www.youtube.com/watch?v=QXCUEt4kt5khttps://www.youtube.com/watch?v=TYWhCx9BG5chttp://filmix.net/dokumentalenye/66862-kod-kirilla-rozhdenie-civilizacii-2013.htmlhttp://hitvid.ru/tv_peredachi/10960-kod-kirilla-rozhdenie-civilizacii-20052013.htmlhttp://odivizion.ru/kod-kirilla-rozhdenie-tsivilizatsii/
|
|
|
|
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 05:44:50 от Александр Васильевич »
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
протоиерей Георгий Завгородний
Администратор
Ветеран
    
Сообщений: 1142
Русь Святая! Храни Веру Православную!
 Православный священник
|
 |
« Ответ #26 : 05 Июня 2013, 16:52:36 » |
|
Фильм рассказывает о появлении славянской азбуки кириллицы и о том, как Россия заняла место лидера восточно-христианской кириллической цивилизации. http://f-georgiy.livejournal.com/208602.html |
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
С ув. прот. Георгий
|
|
|
Дмитрий Н
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 13500
 Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #27 : 24 Мая 2014, 14:04:03 » |
|
День памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры.Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.  Памятник Кириллу и Мефодию в Киево-Печерской Лавре в Киеве Памятник Кириллу и Мефодию в Киево-Печерской Лавре в Киеве Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Святой Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке. В 1863 году Российский Святейший Синод определил установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая (по старому стилю). 30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и письменности. Столицей праздника каждый год становится новый населенный пункт России. В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие культурные мероприятия. Источник: KM.RU
|
|
|
|
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 09:48:05 от Дмитрий Н »
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Дмитрий Н
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 13500
 Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #28 : 24 Мая 2014, 14:18:16 » |
|
Борьба кириллицы и латиницы(К вопросу об иконичности письма)Александр Моторин С духовной точки зрения, всё видимое и воплощенное являет собою некое невидимое и бесплотное содержание. Слово, записанное либо звуковыми волнами в эфире, либо начертаниями на более плотной основе, несет в себе внутренний образ, а в образе ‒ определенный смысл, дух. Почерк человека выражает особенности его душевного мира, нрава. Почерком народа является его письменность ‒ начертания букв, составляющих азбуку. Можно верить или не верить в случайность или не случайность возникновения у определенного народа именно такого, какое есть, а не иного письма. Но в любом случае несомненно, что возникшее письмо с течением веков, тысячелетий его употребления насыщается смыслами всех словесных творений, созданных данным народом, и служит как для него самого, так и для других народов своеобразной подписью, удостоверяющей соборную личность. Вот почему любой народ с большой осторожностью относится к изменениям своей подписи, своего письма, полагая не без оснований, что эти, казалось бы, внешние перемены возникают в связи с изменениями внутренними: либо по их причине, либо причиняя их, а скорее всего ‒ во взаимодействии того и другого. Хорошо, если изменения письма связаны с внутренним духовным развитием народа, хотя и такое развитие оказывается не всегда ко благу и даже не всегда развитием, а порою разрушением лучшего. Хорошо также, если совершается мирное и, можно сказать, полюбовное взаимодействие письменных культур разных народов, близких по духу, вере. Если же изменения письма связаны с внешними воздействиями со стороны совершенно инородного, чужого письма и носимого им духа, то такое воздействие оказывается в конечном счете вредным для принимающего народа, ибо усекает его самобытность, сокращает доступное ему жизненное пространство, полагает начало растворению в другом народе. В истории нередки случаи почти полной замены письма более слабого народа на письмо более сильного. Как правило, такая замена и является своего рода подписью, скрепляющей договор о многосторонней зависимости и подчиненности, которая может быть как на благо, так и во вред уступающему народу. Внутри одной письменной культуры народы могут жить дружно, а могут соперничать ‒ слабые становиться сильными и наоборот, но сама общность письма всегда будет свидетельствовать, напоминать об изначально установленной духовной иерархии, принимаемой всеми этими народами. Если какой-либо народ желает избавиться от включенности в свою письменную иерархию, он выламывается из ее строя путем замены нынешнего письма на иное, но тогда неизбежно ‒ вольно или невольно ‒ попадает во власть другой иерархии. Впрочем, часто не сам народ в целом принимает такое решение, а лишь часть его правящей верхушки, захватившей власть и заставляющей идти за собой. Согласно учению отцов Церкви, весь мир представляет собой икону Божию ‒ отражает образ своего Творца. В этом смысле всё в мире в той или иной степени иконично, если воспользоваться понятием, глубоко разработанным в трудах В.В. Лепахина[1]. Иконический подход позволяет увидеть во всем временном связь с Вечностью, во всем сотворенном ‒ связь с Творцом, во всем видимом ‒ сокровенное. Чем глубже такая связь, тем иконичнее образ, предмет, творение. И, конечно же, сугубо иконично столь удивительное явление человеческой культуры, как письмо. В основном своем служении оно призвано выражать духовное миропонимание, вероисповедание людей, народов, их служение Богу, их представление о Вечности. Письмо в своем исконном, основном предназначении отражает образ Бога и образ человека, служащего Богу. Совершенно не случайно, что надписание имени в обязательном порядке увенчивает создание иконы как священного образа. Без надписания ‒ нет иконы. Так должно быть, и так есть, но есть лишь отчасти, потому что человек ‒ особое создание: он наделен свободной волей, свободой творчества, а в творчестве ‒ свободой выбора между богослужением и богопротивлением. Разные исторически сложившиеся виды письма совсем по-разному выражают отношения между человеком (а в обобщенной сути ‒ целыми народами) и Богом. 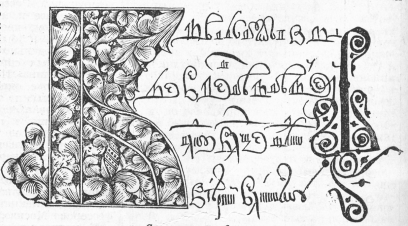 Скорописная азбука [1643] Скорописная азбука [1643] В истории человечества сложилось всего несколько мощных духовно-вероисповедных направлений миропонимания, связанных с определенными видами письма. В истории европейской культуры таких видов письма утвердилось по сути два. Одно является латиницей, и по итогам своего развития может быть названо западным, поскольку его используют прежде всего западноевропейские языки. Служа поначалу для выражения римской языческой духовности, латиница в первые века по Р.Х. стала одновременно выражать и христианскую духовность в ее западноевропейском проявлении. Едва окрепнув к IV‒V векам, христианское служение латиницы стало в дальнейшем всё более и более ослабевать под натиском возрождавшейся языческой культуры. Западноевропейское смешение христианской и магической духовности достигло промежуточной вершины в эпоху Возрождения XIV‒XVI веков и в дальнейшем, в Новое время, лишь усиливалось, образуя то, что стали именовать Новым Вавилоном Запада. Это магическое по глубинной духовной сути западное сообщество составили народы, чья письменность сложилась на основе латиницы (включая и народы совсем не западные и совсем не европейские, до сих пор затягиваемые всемирным водоворотом западного духа и латинского письма). Другой, условно говоря, восточный, вид европейского письма образован двуединством греческой и созданной отчасти на ее основе славяно-кириллической письменности. Это письмо в своей греческой составляющей поначалу выражало эллинскую, затем эллинистическую языческую духовность, а по Р.Х. ‒ с нарастающей мощью ‒ христианско-православную веру. На пике своего мистического роста греческое письмо послужило материалом для создания нового славянского кириллического письма, созданного и распространенного трудами святых просветителей Кирилла и Мефодия прежде всего для обслуживания священного православного богослужения. Исходное предназначение кириллицы сохранялось в качестве основного в течение нескольких веков, а в сущности – сохраняется и до сих пор, поскольку введенный Петром I с 1708 года гражданский упрощенный кириллический шрифт лишь упрочил за церковнославянской кириллицей ее богослужебное употребление. В ходе исторического развития Европы собственно греческое письмо всё более утрачивало значение и силу по мере ослабления Византии, а славянская кириллица, напротив, всё более утверждалась, в основном за счет Руси, России. 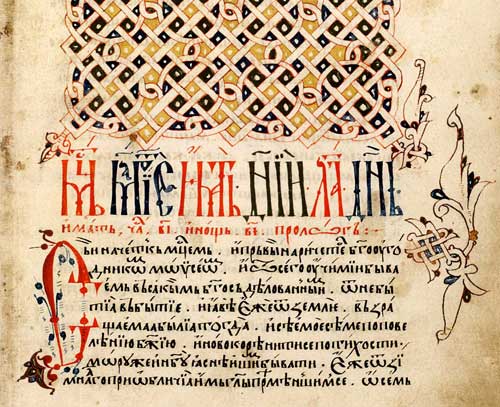 Борьба между кириллицей и латиницей разгорелась сразу после рождения кириллицы: в 860–870-х годах Борьба между кириллицей и латиницей разгорелась сразу после рождения кириллицы: в 860–870-х годах. Тогда Запад, вопреки распространенной трехъязычной ереси, все-таки вынужден был признать за кириллицей право на богослужебное употребление и на переводы священных христианских книг. С тех пор эта борьба никогда не угасала, сохраняя от эпохи к эпохе свои основные особенности, приемы, и успех сторон был переменным. Западный католический Рим постепенно навязывал латиницу зависимым славянским народам: с XII века ‒ хорватам (причем у них кириллическое сопротивление прекратилось лишь в XIX веке), с XIII века ‒ чехам, с XIV века ‒ полякам. Православные румыны и вовсе начали переходить на латиницу лишь в 1860 году. В новейшей истории показателен случай Сербии: под мощным западным давлением с 1990-х годов она переживает бурную латинизацию письма. На государственном уровне кириллица всё еще остается единственным алфавитом, но в быту латиница используется весьма широко, ряд газет выходят только на латинице, и она же преобладает в электронной сети. В отколовшейся от Сербии в 2006 году Черногории латиница и кириллица законодательно уравнены в правах, причем в повседневности латинизация нарастает. В России некоторое движение письма в сторону латиницы возбудил Петр I, когда с 1708 года стал вводить в дополнение к церковнославянской кириллице упрощенную гражданскую, призванную обслуживать нецерковную словесность. По мнению многих, внешность новой кириллицы стала несколько напоминать латиницу: «<…> угловатые буквы стали сближаться с округленными латинскими»[2]. Однако иностранцы и местные западники продолжали считать обновленное отечественное письмо недостаточно совершенным, усматривая чистое совершенство в латинице. Некоторое возрождение православной духовности в эпоху Елизаветы Петровны вызвало к жизни попытки выдающихся филологов, писателей, таких как Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков, как-то отграничить новое гражданское письмо от латинского[3]. Было замечено, что подчеркнуто латиноподобная внешность новых гражданских букв углубляла разрыв между церковнославянским и новым русским языком, подчеркивала ослабление православного духа в современном русском языке вместе с усилением духа западного. Это заметил уже И.-В. Паус в «славяно-русской» грамматике (1724‒1729), а затем, в 1748 году, подтвердил Тредиаковский[4]. Понимание духовной значимости буквенных начертаний побуждало Запад вновь и вновь предлагать русским латиницу. С конца XVIII века в условиях масонского влияния усилились нападки на «лишние», не находящие соответствия в латинице буквы русской азбуки. В.В. Лазаревич в 1780 году отозвался о подобных буквах так: «Вы пользы никакой отнюдь не приносили / И только азбуку российскую тягчили»[5]. Масон А.Ф. Лабзин ненавидел букву «ъ» и подписывал письма «Безъеров»[6]. Сторонники кириллицы сопротивлялись усечениям. Когда в 1832 году А. Гумбольдт в Петербурге на вечере у А.Н. Оленина выразил мнение о «совершенном излишестве ера», ему в особом письме от имени «буквы Ъ», так и подписанном: «Ъ», возразил А.А. Перовский (Антоний Погорельский). Это письмо до 1865 года было четырежды переиздано в русской печати[7].  Средневековая латиница Средневековая латиница В расцвет правления Николая I, когда в 1833 году было провозглашено развитие государственной жизни в духе «Православия, самодержавия, народности», выпады противников кириллицы только усилились. Так, в том же самом 1833 году в Москве безымянно вышел «опыт усовершенствования литеры для русского алфавита» («OPЫT WEDENIЯ NOVЫH RUSSKIH LITER)»[8]. В «Predislovii» автор признается: «Наслаждение возможным счастием есть последствие настоящего и окончательного просвещения, а быть участником хотя немного в способствовании к достижению оной цели ‒ вот что причиной издания сей брошюрки»[9]. Предлагается и средство к достижению цели ‒ всемерное приближение варварского русского письма к европейскому: смесь латиницы с кириллицей на основе преобладания латиницы дает «красивые шрифты», при введении которых «иностранцы не будут смотреть на наши буквы как на полуазиатские»[10]. Сходную мысль повторил Засядько в книге «О русском алфавите» (М., 1871). Дальше пошел поляк К.М. Кодинский, который издал брошюру «Упрощение русской грамматики» (СПб., 1842), где предложил полную замену кириллицы латиницей, обосновав это «некрасивостью, неудобством русского шрифта»[11]. В.Г. Белинский в разборе этой книги назвал ее «затруднением» русской грамоты, однако сам, будучи западником, предлагал замену «Й» на «J»[12]. Со своей стороны защитники кириллицы стремились вскрыть духовные причины латинского нашествия. Так, в 1840 году И. Кулжинский (некогда учивший Н.В. Гоголя в Нежинской гимназии) писал: «От алфавита можно дойти до образования языка, до форм гражданского существования и даже до богослужения, отправляемого западными славянами на латинском языке»[13]. В громоздкости польской латиницы автор видит доказательство противоестественности связей славянского расположенного к Православию духа и католичества: «Посмотрите на эту фалангу латинских букв (SZCZ), собранных для того только, чтобы выразить один славянский звук: Щ»[14]. Большинство русских писателей и филологов первой половины XIX века придерживались в вопросе о письме умеренно охранительных взглядов: латиницу отвергали, но введение петровского гражданского письма приветствовали. Так, М.П. Погодин в заметке «Славянские новости» (1836) выступил против статьи Лозинского «О необходимости употребления латино-польских букв в русском письме»: «Теперь никто не сомневается о настоятельной необходимости славянской азбуки для русского письма и каждый признает превосходство ее над недостаточностью чужого алфавита»[15]. Но тут же Погодин выступил и против «духовенства русского», желающего восстановить «первобытную кириллицу» вместо «гражданского письма», которое нравится автору «за его красивость и удобство». У латинствующих поляков русским учиться не подобает, так как «вся польская словесность есть испорченная русчина, потому что поляки, как прежде, так и теперь, нашим языком подправляют свой»[16]. Попытки олатинить русское письмо увенчались прочным успехом по крайней мере в одной области: в языке научных исследований при передаче звучания чужестранных слов (в транскрипции, транслитерации) почти полностью возобладала латиница, и это неписаное правило сохраняется до настоящего времени. С помощью латиницы передают звучание не только слов западноевропейского, собственно латинского письма, но и всякого иного, например санскритского, древнееврейского и даже древнегреческого. Кроме того, с XVIII века распространился обычай не переводить на русский язык названия, имена и целые выдержки из иноязычных западных источников. На эту напасть обращали внимание в XIX веке. Так, в 1843 году И. Марков сетует: «Весьма многие из наших сочинителей пишут иностранные слова и выражения иностранными же буквами»[17]. Отслеживали приверженцы кириллицы и совсем скрытные, эхоподобные отзвуки латинского влияния. Например, В. Даль в 1852 году в рассуждении «О наречиях русского языка» отметил как противоестественный для нас обычай «сдваивать согласные» при передаче иностранных слов, таких как «аллопатия» «ассессор»: «<…> это противно нашему языку»[18]. В целом в течение XIX века Россия сравнительно удачно, хотя и с переменным успехом сдерживала натиск латиницы. В XX веке борьба продолжилась, и здесь наблюдаются две эпохи сравнительно успешного наступления латинского письма, впрочем, в обоих случаях все-таки остановленного. Оба наступления совпадают с волнами западного влияния на всю русскую жизнь, поднимавшимися в условиях государственных переворотов. В первом случае это десятилетие ранней советской эпохи (наш социализм был проявлением философского и политического западничества). В 1919 году Научный отдел Наркомпроса и лично нарком А.В. Луначарский предлагают перевести письмо всех народностей России, включая и русских, на латиницу. Ленин этому сочувствовал, но из тактических соображений приостановил дело в части русского языка. В только что созданном СССР начали с латинизации языков национальных меньшинств, причем у тюркских народов латиницей вытесняли арабское письмо. В 1920-е дело успешно продвигалось. С 1928 года действовала комиссия по латинизации уже и русского алфавита. Однако уже 25 января 1930 Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством Сталина дало поручение Главнауке прекратить разработку этого вопроса. С середины 1930-х под руководством Сталина совершается прорусский государственный поворот, и те алфавиты малых народов, для которых уже была разработана латиница, переводят на кириллицу. В следующие полвека кириллицей старались записывать даже математические формулы, языки программирования и осуществлять научную транслитерацию иностранных слов.  Проект украинской латиницы Проект украинской латиницы Новая волна латинизации естественным образом начинается после переворота 1991 года. Она разнообразно подкрепляется извне, в частности бурным ростом господства англоязычной латиницы в мировой электронной сети. Латиница захватывает рекламу во всех ее проявлениях, заборные и настенные надписи разного уровня нравственности и художественности. В 1990-е совершается обратный перевод с кириллицы на латиницу языков ряда бывших советских республик, уже переживших первую латинизацию в 1920-е годы. В одних случаях дело увенчалось успехом (например в Молдове, Азербайджане), в других (например в Узбекистане, Туркменистане) ‒ замедлилось по причине возникших многомерных трудностей. Некоторые новые государства, такие как Украина, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, не говоря уже о Беларуси, тогда сохранили верность кириллице, однако и в них до сих пор неспокойно. На Украине в самом начале руководства прозападного президента Ющенко, в 2005 году, был подготовлен «проект Указа президента Украины о поэтапном переводе национальной письменности с кириллицы на латиницу. <…> Указом предусматривается в течение 2005‒2015 годов провести замену в системе образования и делопроизводства в Украине украинского алфавита, созданного на основе кириллической азбуки, на латинский. Переход на латинский алфавит осуществляется “с целью активизации интеграции Украины в Европейское Сообщество, расширения коммуникативных функций украинского языка… укрепления разносторонних связей с государствами, составляющими оплот современной цивилизации”»[19]. Осуществление замысла тогда замедлилось, однако после совершенного в начале 2014 года государственного переворота одним из первых законодательных движений самопровозглашенной прозападной власти стала новая постановка вопроса о латинизации письма. В марте стало известно, что «временная специальная комиссия по подготовке проекта закона “О развитии и применении языков на Украине” рассматривает постепенный отказ от использования кириллицы в стране»[20]. В декабре 2012 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в очередном «Послании к народу» заявил: «Необходимо уже сейчас начать подготовительную работу по переводу с 2025 года казахского алфавита на латинскую графику. Это послужит не только развитию казахского языка, но и превратит его в язык современной информации»[21]. Сходные стремления к латинизации возбудились в 1990-е годы и внутри новообразованной России, причем как на общегосударственном уровне, так и на уровне отдельных субъектов федерации. Уже в 1992 парламент Чеченской республики Ичкерия допустил латинский алфавит чеченского языка, созданный еще в 1925 году (и замененный на кириллицу в 1938-м). Чеченская латиница ограниченно использовалась (в дополнение кириллице) во времена наибольшей обособленности республики от России (1992‒1994, 1996‒2000). Правда, употребление свелось к надписями в общественных местах. Подобным образом в 1999 году в Татарстане был принят закон о восстановлении латинской графики татарского алфавита. (Окончание следует)
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
Дмитрий Н
Глобальный модератор
Ветеран
    
Сообщений: 13500
 Вероисповедание: Православие. Русская Православная Церковь Московского Патриархата
|
 |
« Ответ #29 : 24 Мая 2014, 14:18:40 » |
|
(Окончание)В течение 1990-х ‒ начала 2000-х годов нарастало количество научных и публицистических статей, авторы которых в той или иной степени выражали свою любовь к латинице и силились убедить в необходимости ее введения в России. Так, М.В. Арапов доказывает благотворность «придания латинице статуса официально признанного альтернативного алфавита»[22]. Ярым проповедником перехода на латиницу выступает С.А. Арутюнов: «Россия должна интегрироваться в Европу. И одним из необходимых условий этого, по моему глубокому убеждению, является перевод письменности всех народов России на латинский алфавит. К сожалению, судя по настроению некоторых, русский язык перейдет на эту графику, видимо, одним из последних, что приведет лишь к тому, что другие, неславянские, народы России будут опережать русский народ в своем цивилизационном развитии»[23]. Казалось бы неотвратимое всероссийское движение к латинице было приостановлено в 2002 году половинчатым решением Государственной Думы РФ, потребовавшей обязательного использования кириллицы на уровнях государственных языков федерации и отдельных республик-субъектов, но сохранившей возможность латинизации в будущем при условии принятия соответствующего закона[24].  Несмотря на то, что призывы к латинизации сохраняются до сих пор, в целом начало XXI века проходит под знаком постепенного восстановления прав и влияния кириллицы, причем не только в России, но и во всем мире. Многие современные языковеды убедительно возражают защитникам латиницы[25]. В 2013 году русский язык вышел на второе место по использованию в интернете: около 6,3%, а если добавить остальные кириллические языки, то получится свыше 7%. Для сравнения: немецкая латиница ‒ 5,6%, китайское письмо ‒ 4%, японское ‒ 4,9%. Впрочем, у английской латиницы остается подавляющее преимущество: 55,5%[26]. Российским правительством возглавлено набирающее силу мировое движение за доменные имена на языках с нелатинскими алфавитами, а это залог нелатинского обозначения всех электронных адресов. Вынужденное решение допустить использование нелатинских доменных имен было принято в октябре 2009 Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ‒ Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров) ‒ регулирующим органом со штаб-квартирой в США. Родные языки большей части из 1,6 миллиарда пользователей интернета не имеют латинских алфавитов, признала Icann[27]. С 2013 года насчитывается уже три домена верхнего уровня на кириллице: российский (с именем «.рф»,), сербский и казахстанский. С 2007 года кириллица стала одним из трех официальных алфавитов Евросоюза (благодаря вступлению Болгарии). Постепенно создаются условия для действительного, а не просто заявленного на словах изменения всего письменного делопроизводства Евросоюза. В 2013 году кириллические надписи (в дополнение к латинским и греческим) появляются на банкнотах новой серии Евровалюты. Однако СМС-сообщения на кириллице, согласно неким «мировым стандартам», всё еще оцениваются в два с лишним раза дороже, чем на латинице[28], что является способом мягкого, но действенного принуждения к латинизации кириллического мира. Борьба продолжается. 23 мая 2014 года[1] См., например: Лепахин В.В. Иконология и иконичность // Икона и образ, иконичность и словесность. М., 2007. С. 129‒164.
[2] Васильев В. «Филологические наблюдения над составом русского языка» прот. Г. Павского // Маяк. 1843. Т. 8. С. 56.
[3] См.: Грот Я. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. СПб., 1873. С. 22‒31.
[4] См.: Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994. С. 117.
[5] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1976 год. Л., 1978. С. 146.
[6] Грот Я. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. С. 40.
[7] Там же. С. 41.
[8] Опытъ введения новыхъ русскихъ литеръ (OPЫT WEDENIЯ NOVЫH RUSSKIH LITER): Новыя усовершенствованныя литеры для русскаго алфавита, или Удобнѣйшее средство учиться чтенію и письму Русскому даже и иностранцамъ, приспособленное вмѣстѣ къ изученію всѣхъ Европейскихъ алфавитовъ, съ приложеніемъ нѣкоторыхъ Историческихъ замѣчаній о употребленіи буквъ у Древнихъ и Новыхъ народовъ. М.: Тип. Августа Семена, 1833.
[9] Там же. С. II.
[10] Там же. С. 16.
[11] Грот Я. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. С. 52.
[12] Там же. С. 52.
[13] Кулжинский И.Г. О значении России в семействе европейских народов. М., 1840. С. 14‒15.
[14] Там же. С. 14.
[15] Погодин М.П. Славянские новости // Московский наблюдатель. 1836. Ч. 7. С. 274‒275.
[16] Там же. С. 293.
[17] Марков И. Повесть о русской народности (Письмо к издателю) // Маяк. 1843. Т. 8. С. 81.
[18] Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1994. С. XLI.
[19] http://censor.net.ua/forum/296184/ukraina_perehodit_na_latinitsu.
[20] http://newsland.com/news/detail/id/1334117/?utm_sourc; см. также: http://ria.ru/world/20140305/998301560.html.
[21] http://www.lenta.kz/?mod=news&id=811.
[22] Арапов М. Латиница и кириллица. Информация и фасцинация // http://polit.ru/article/2003/09/23/625530/.
[23] Арутюнов С.А. Всеобщий переход на латиницу неизбежен // Независимая газета. 2001. 7 августа. http://www.ng.ru/style/2001-08-07/8_perehod.html.
[24] Федеральный закон «О внесении дополнения в статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 27.11.02.
[25] Их мнения обобщены, например, в статье: Масленникова Наталья. Азбучные глобализаторы. Латинский алфавит как идеологическое оружие Запада // http://topwar.ru/32828-azbuchnye-globalizatory-latinskiy-alfavit-kak-ideologicheskoe-oruzhie-zapada.html.
[26] http://ru.wikipedia.org/wiki/Языки_в_Интернете#cite_note.
[27] Clifford J. Levy. Russians Wary of Cyrillic Web Domains // The New York Times. Published: December 21, 2009 (http://www.nytimes.com/2009/12/22/world/europe/22cyrillic.html?_r=1)/). Перевод: «Россиян беспокоит стремление власти создать в Интернете кириллическую доменную зону» (http://www.corpsite.ru/News2/Internet/rfNET.aspx). Статья в «Нью-Йорк таймс», конечно, не одобряет расширение прав кириллицы и приписывает свое неодобрение «россиянам».
[28] См., например: ФАС заинтересовалась разницей в цене между латиницей и кириллицей // http://mydiv.net/arts/view-sms-kirilliza.html.
Источник: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/70901.htm© Православие.Ru
|
|
|
|
|
 Записан
Записан
|
|
|
|
|





